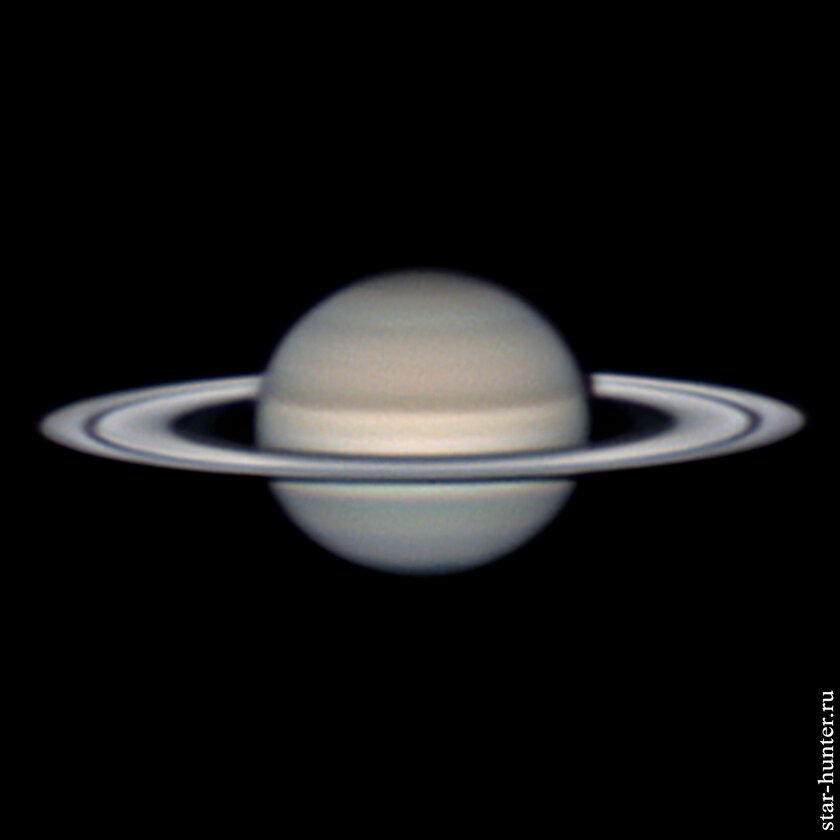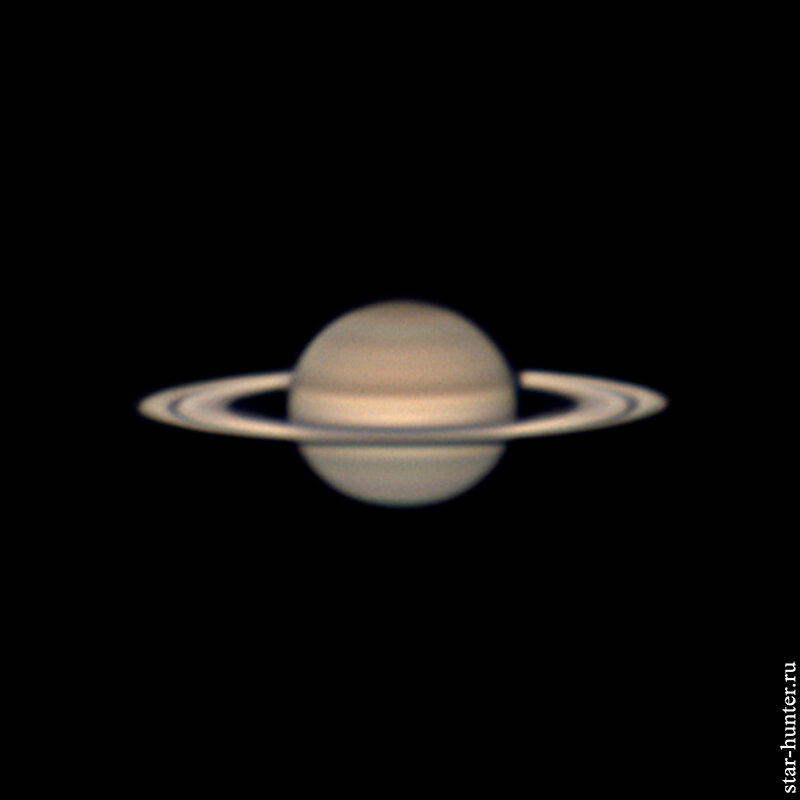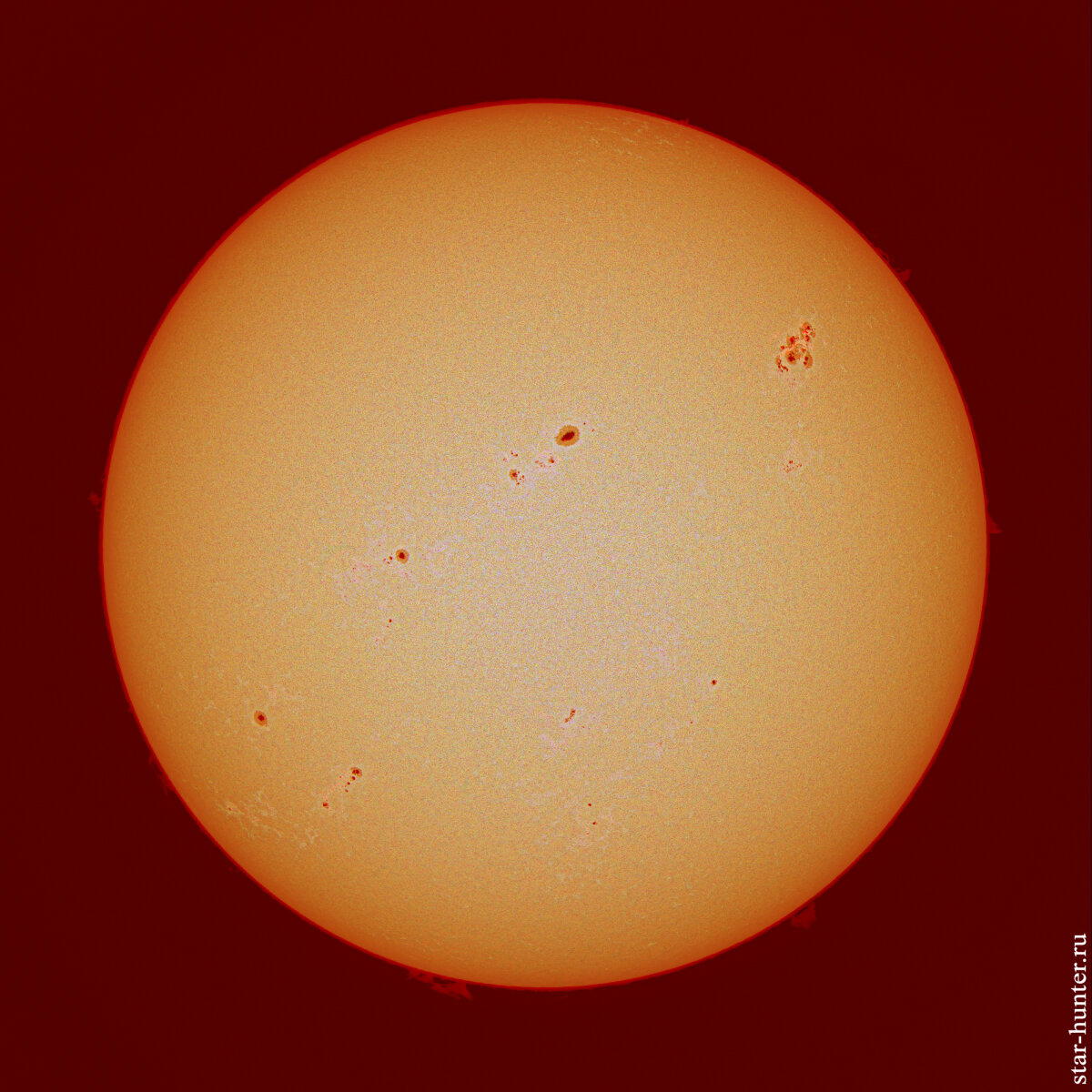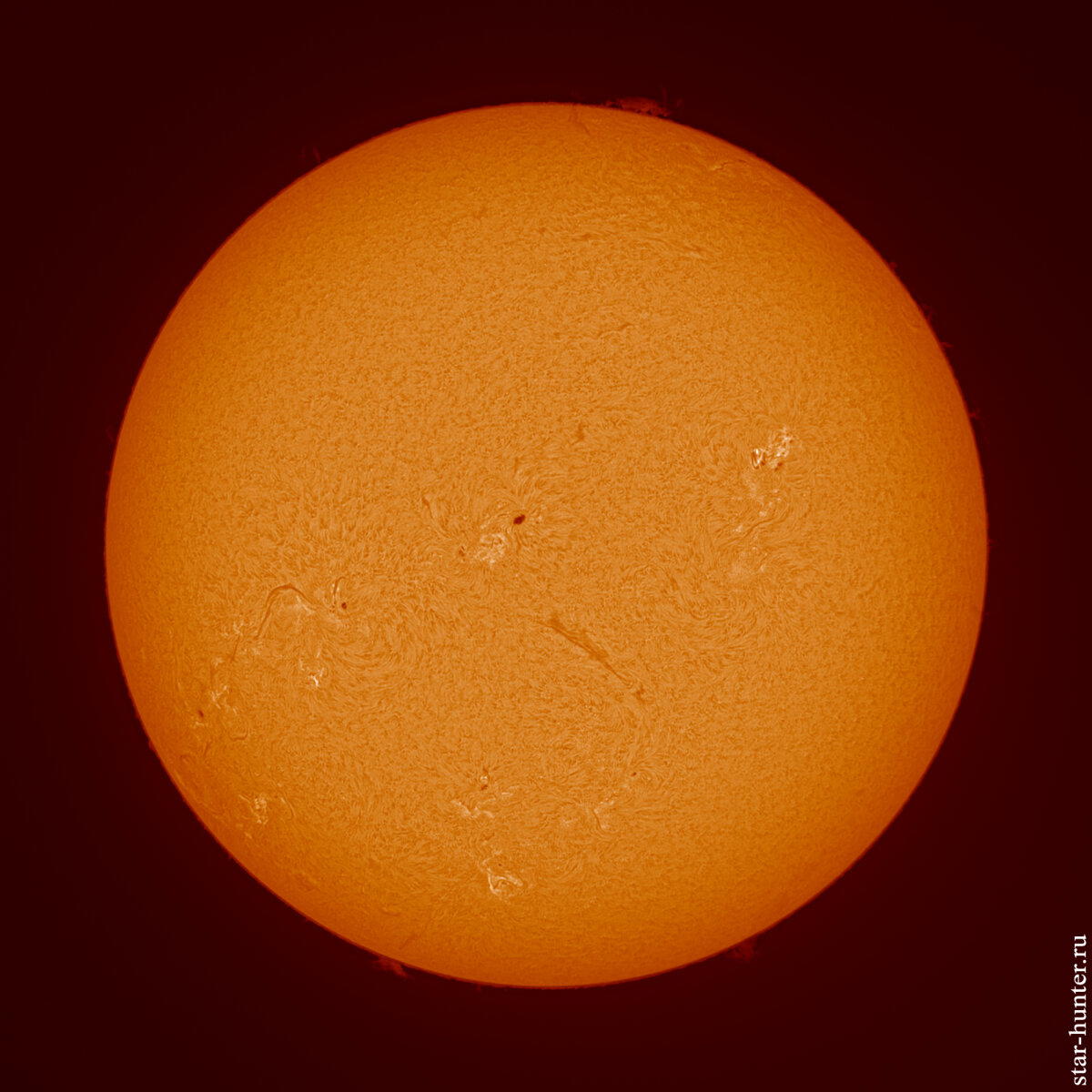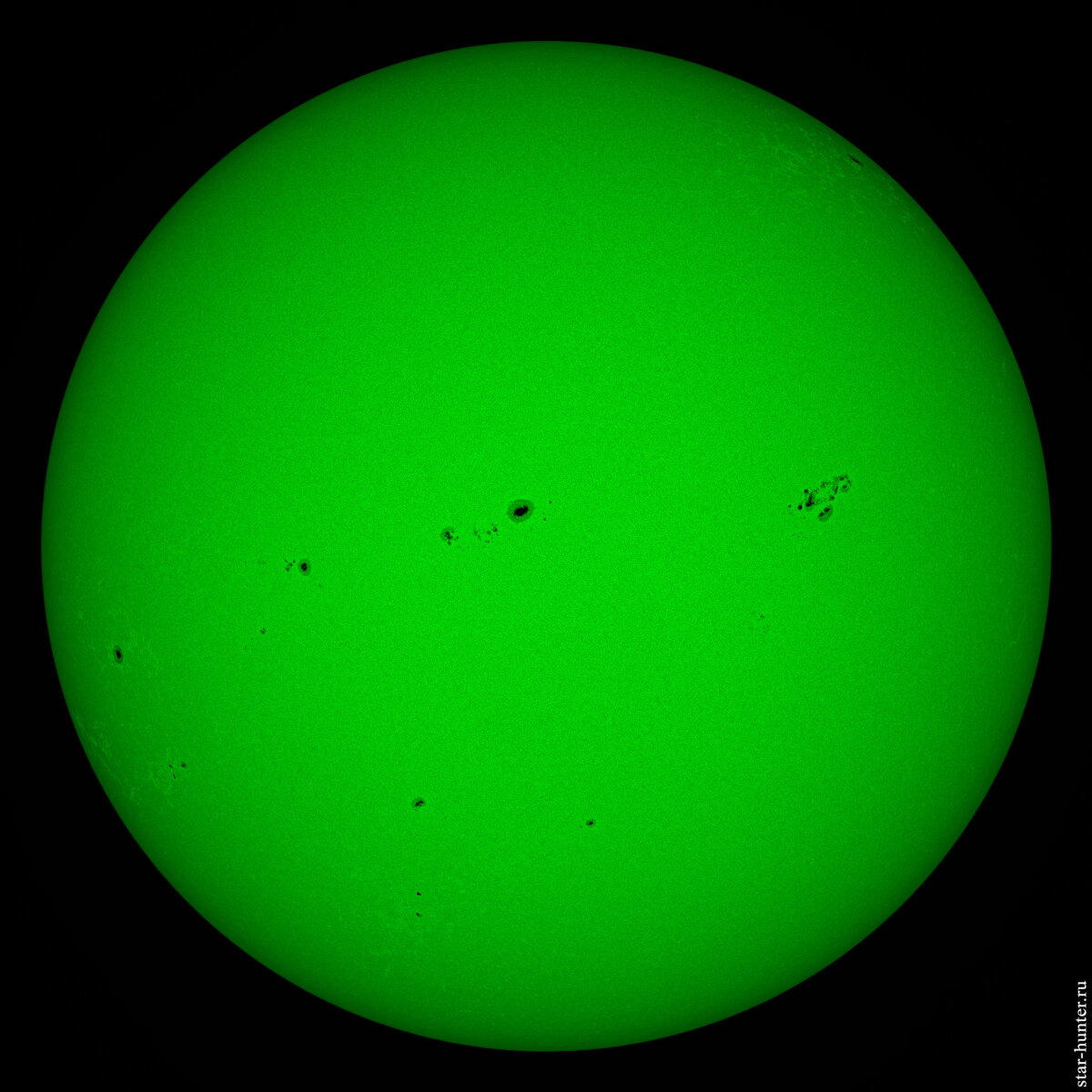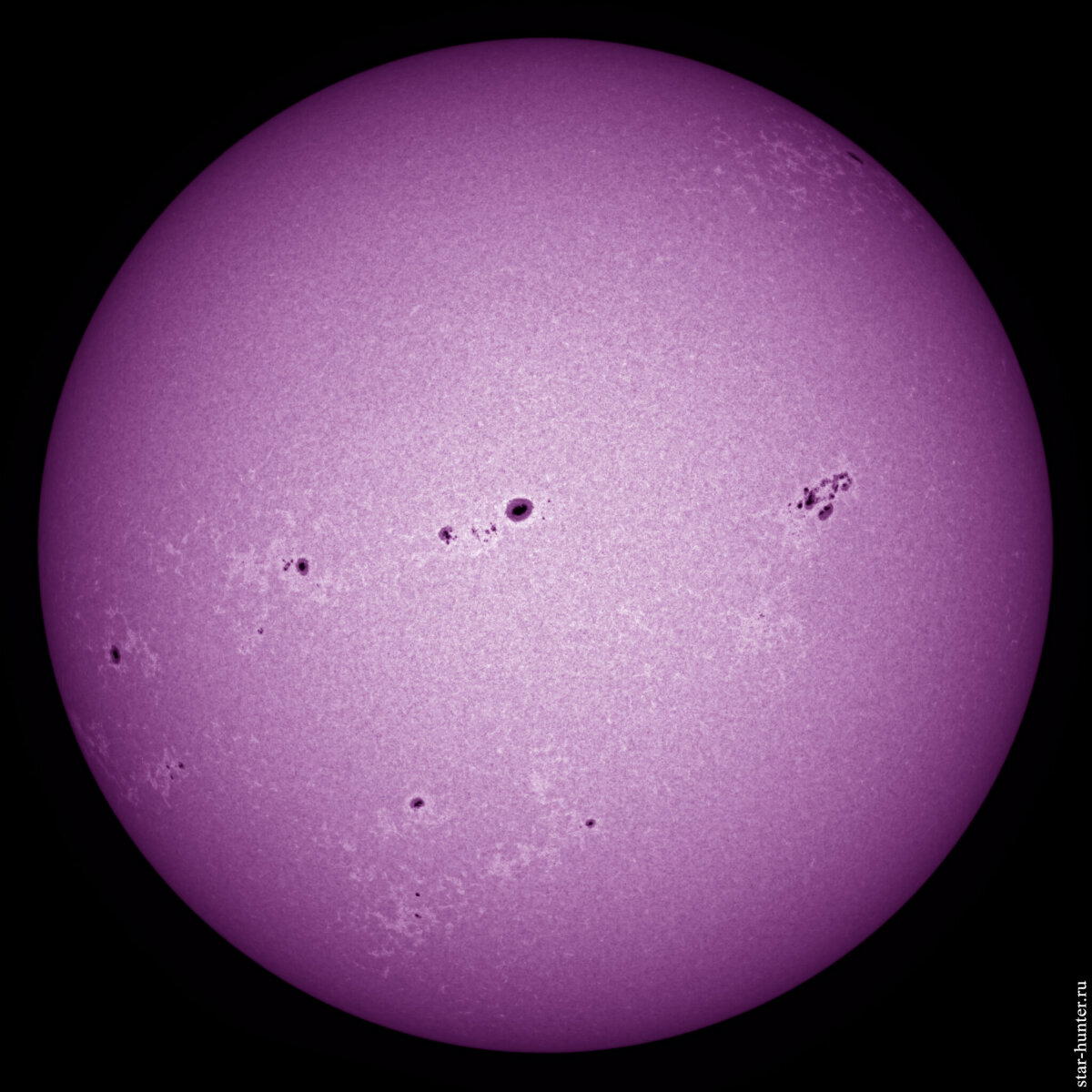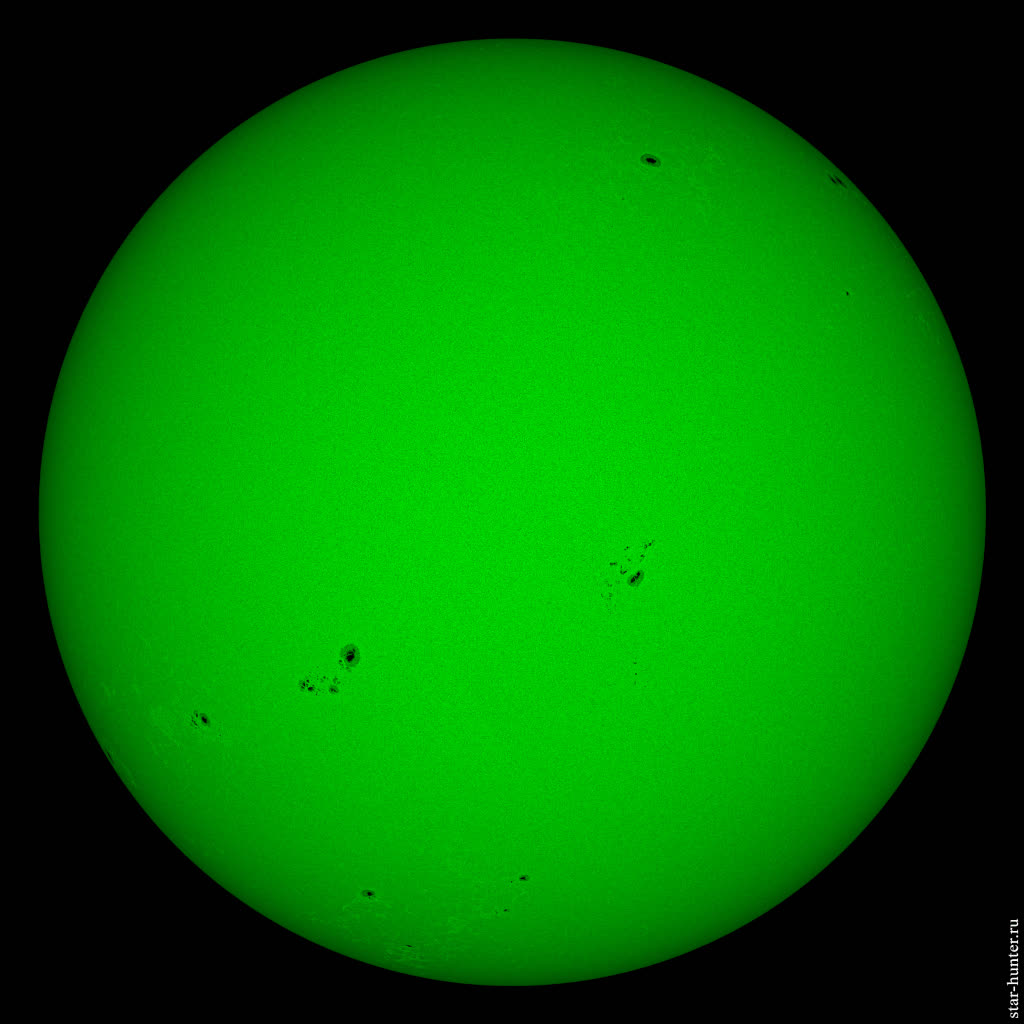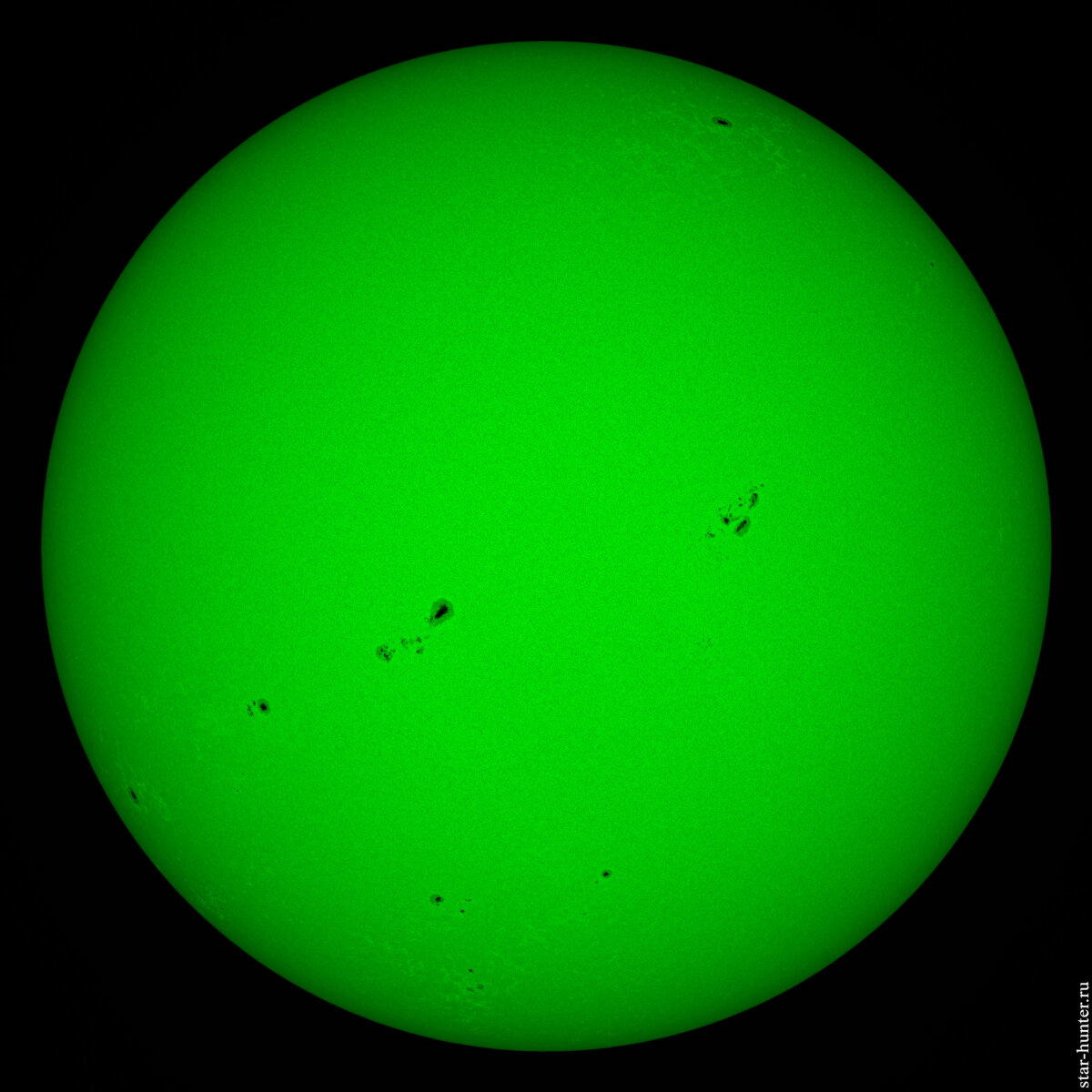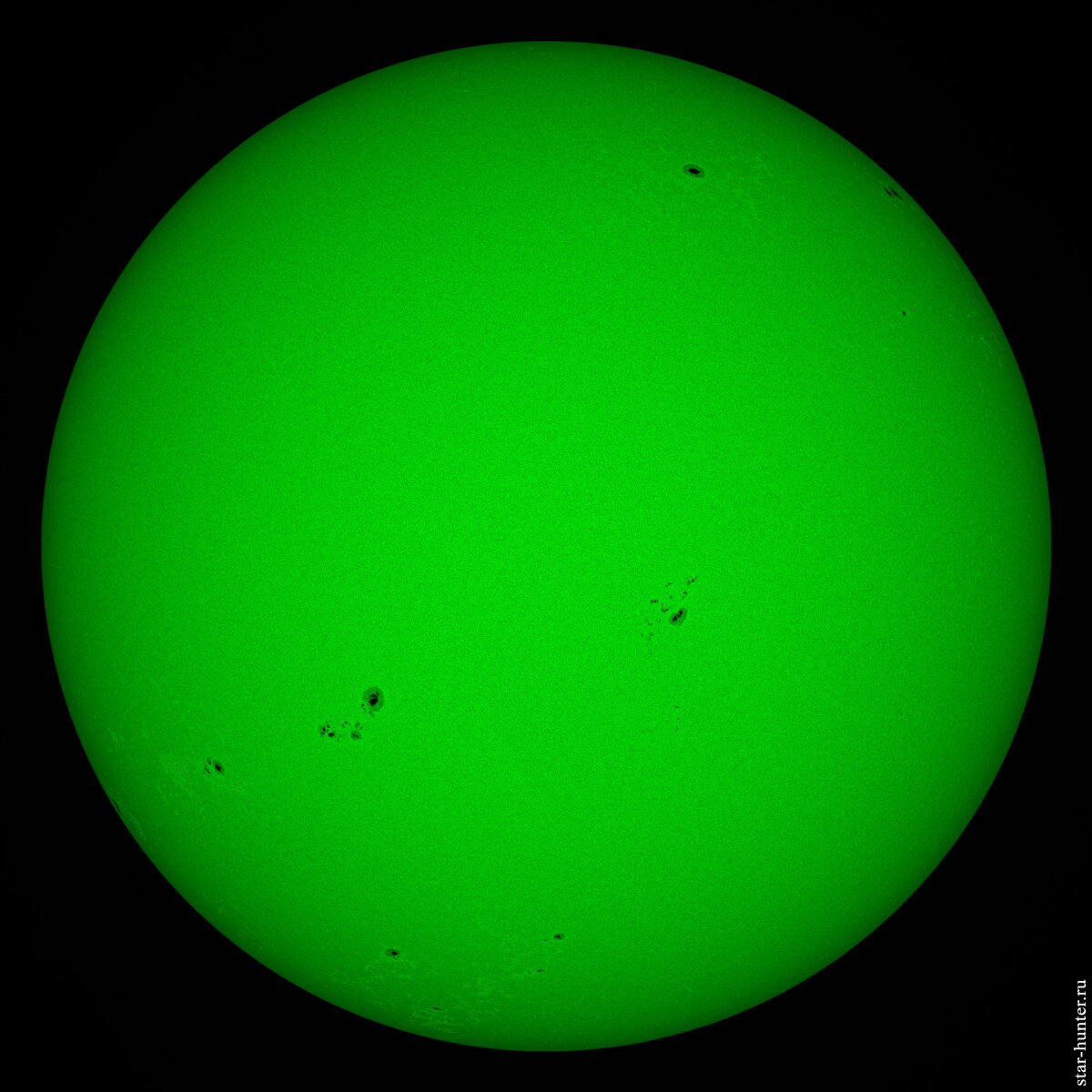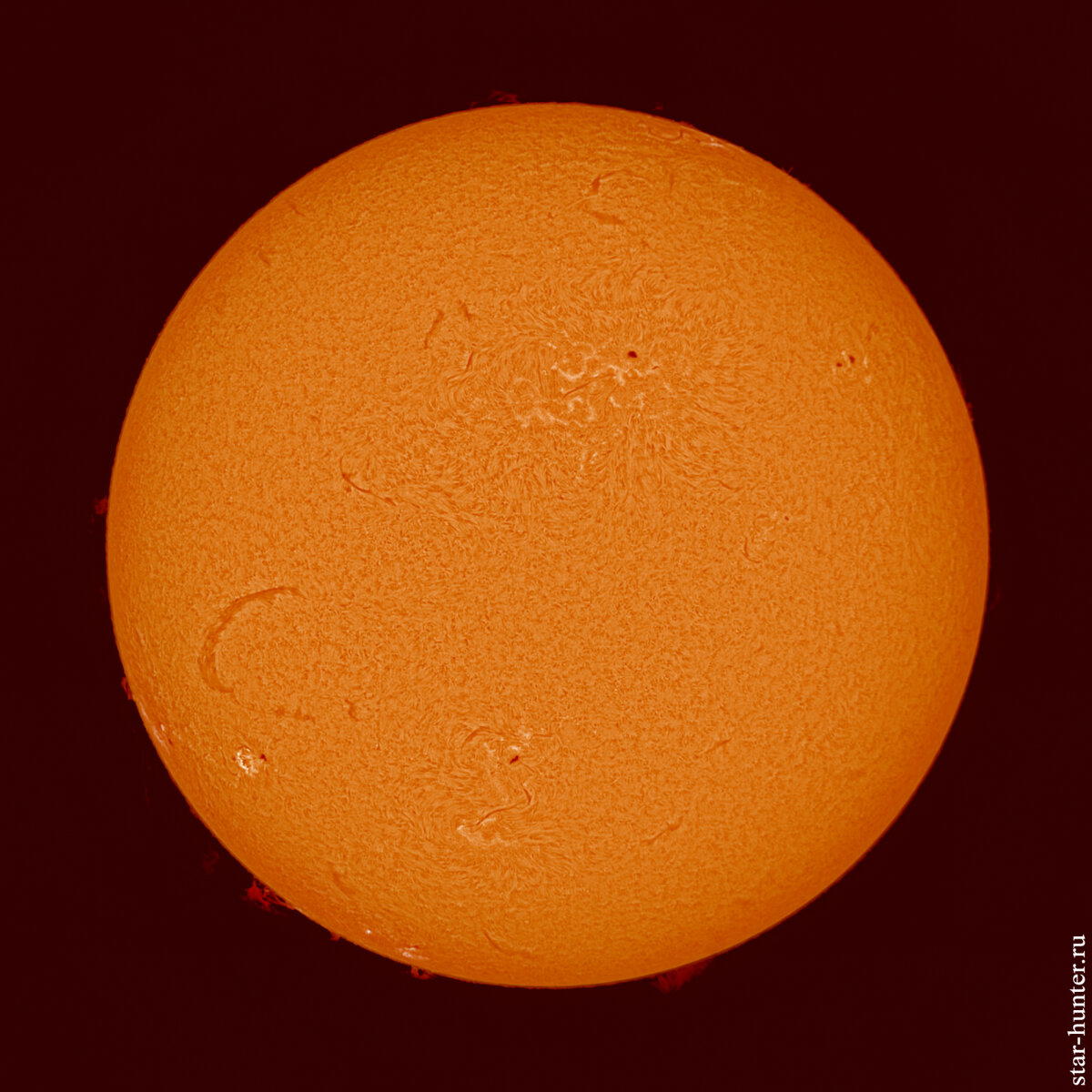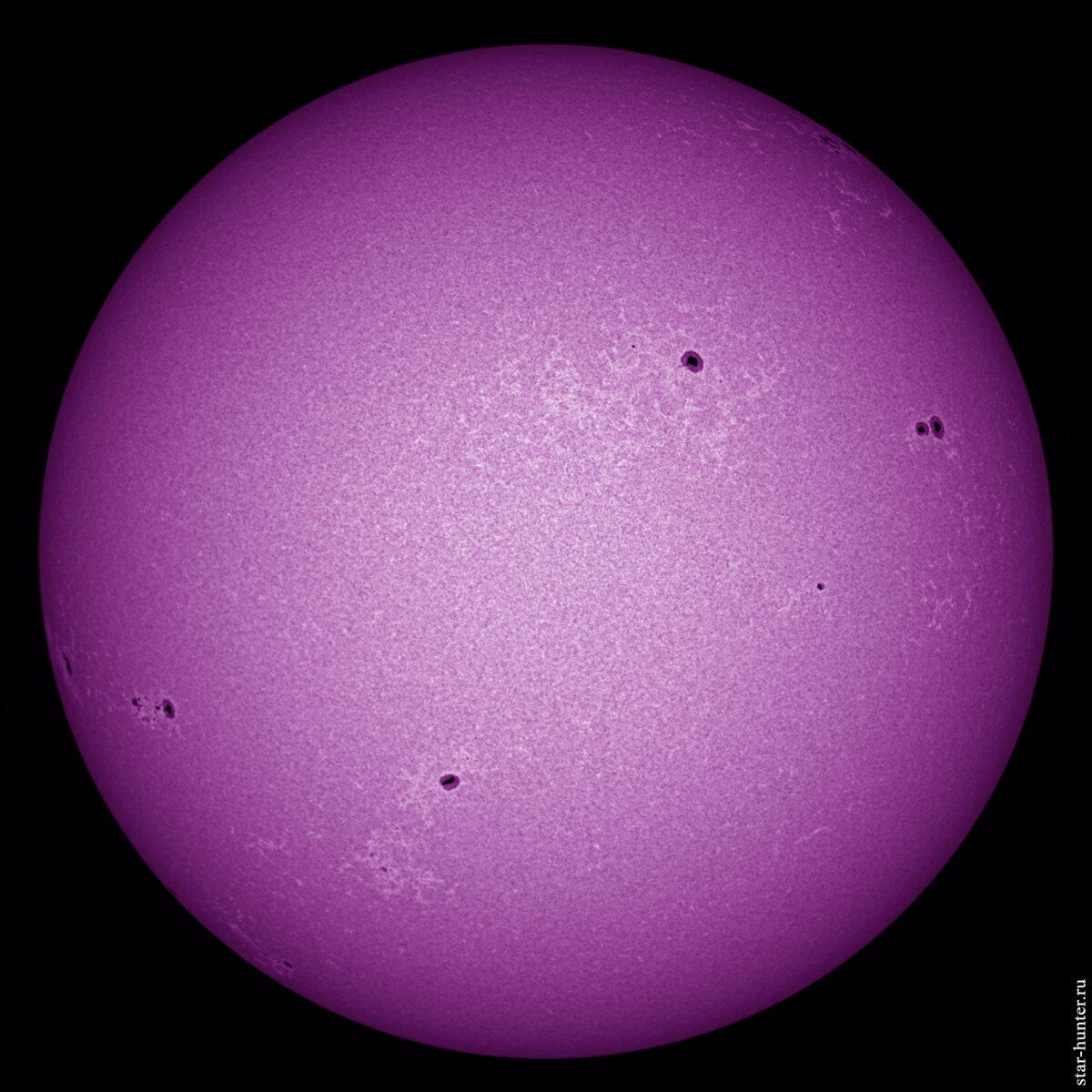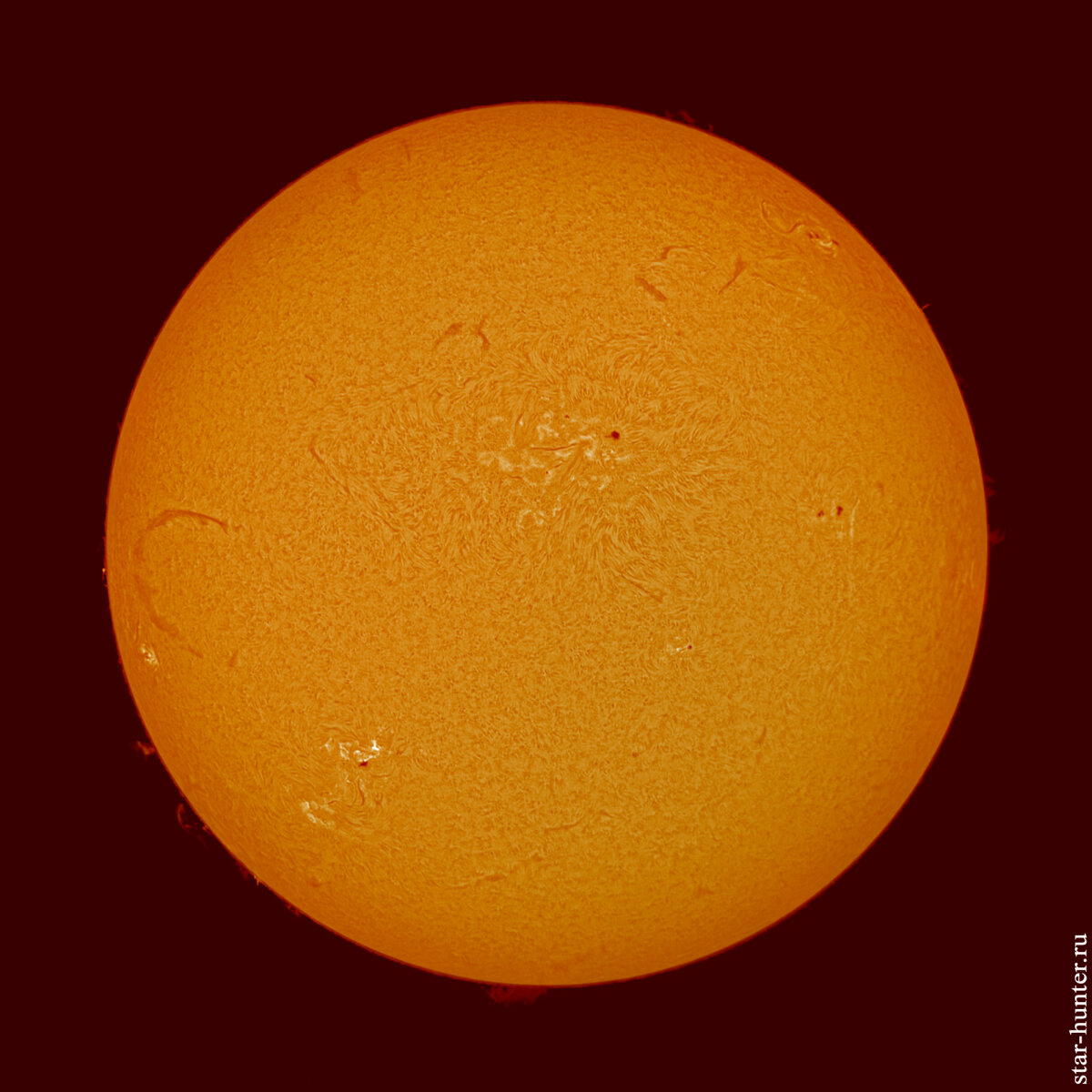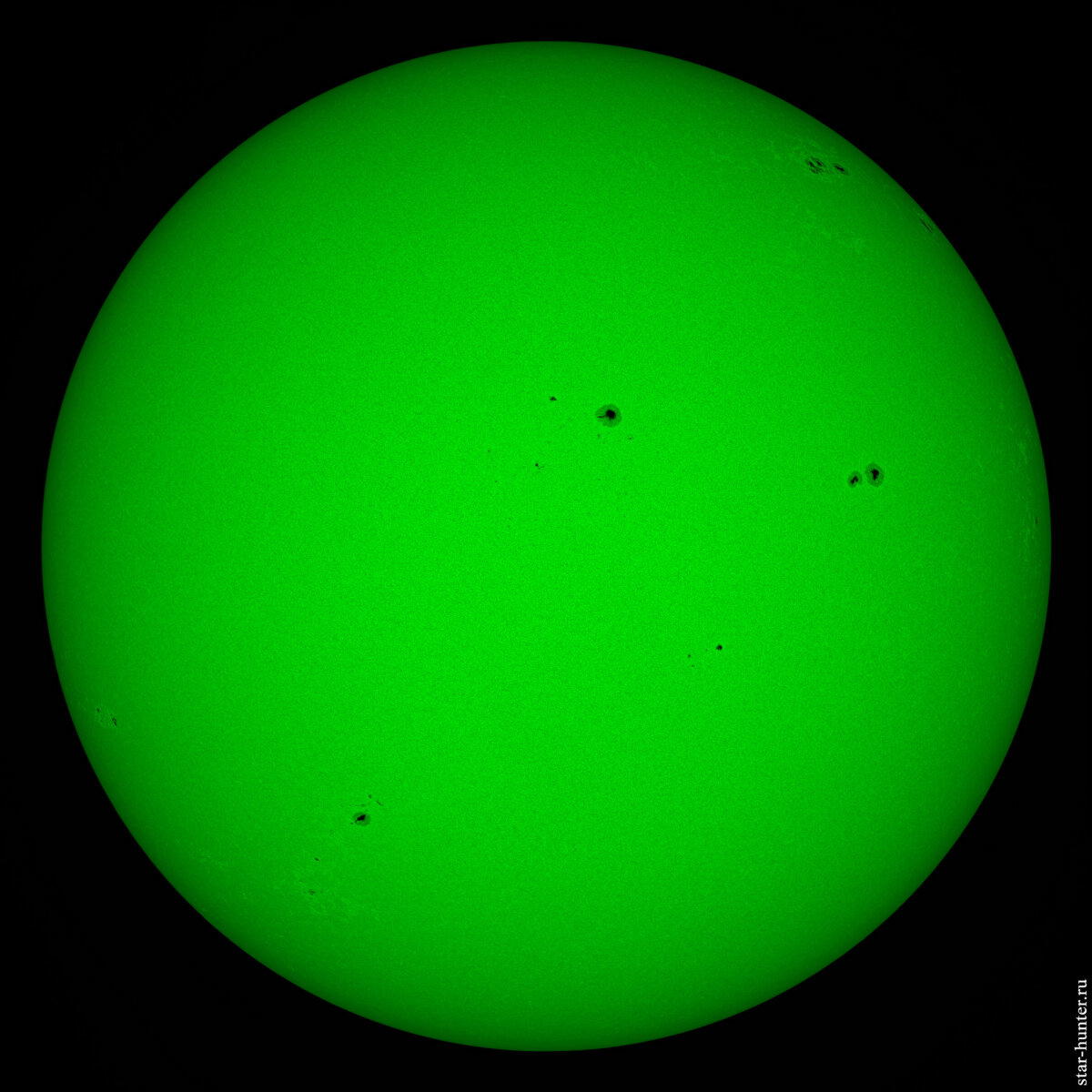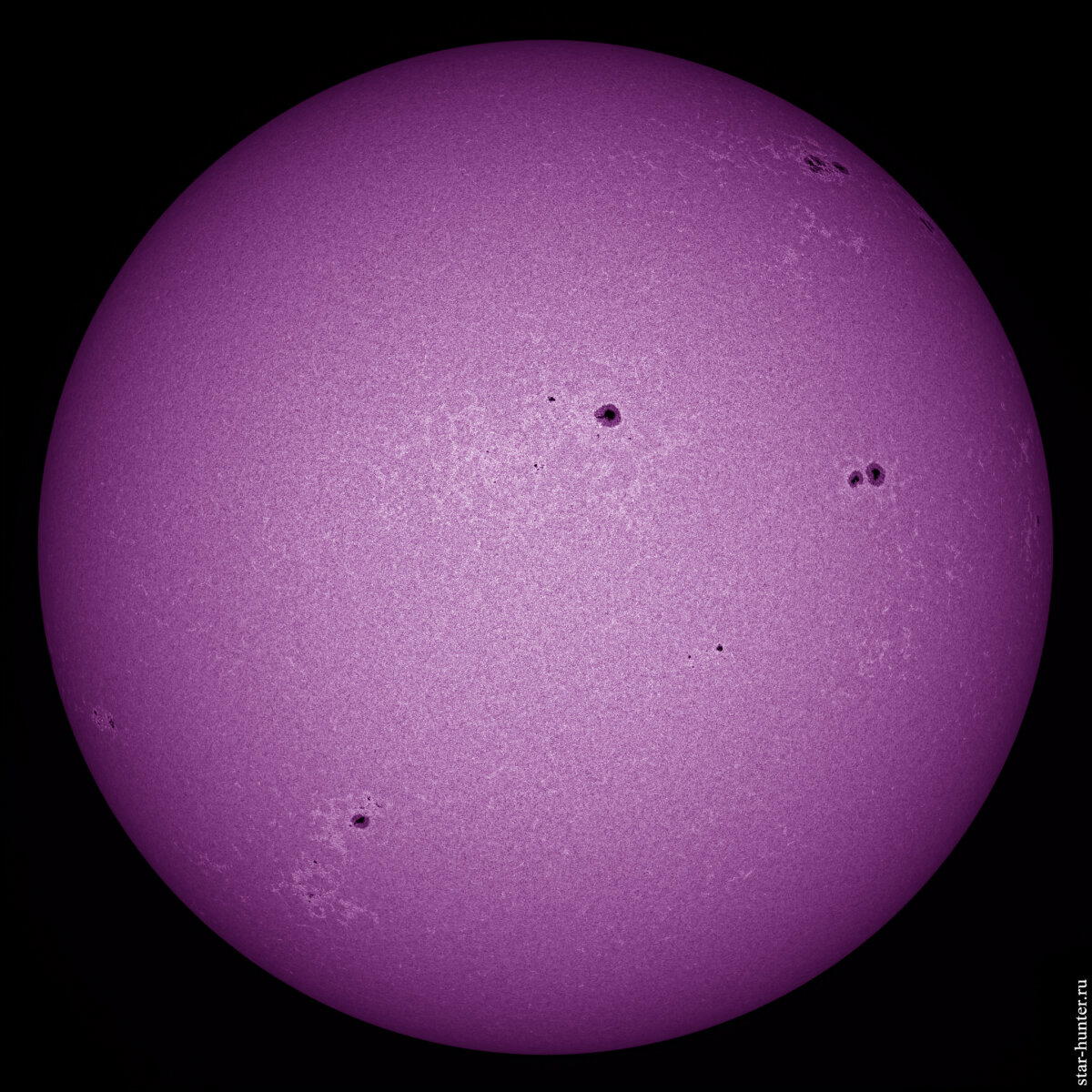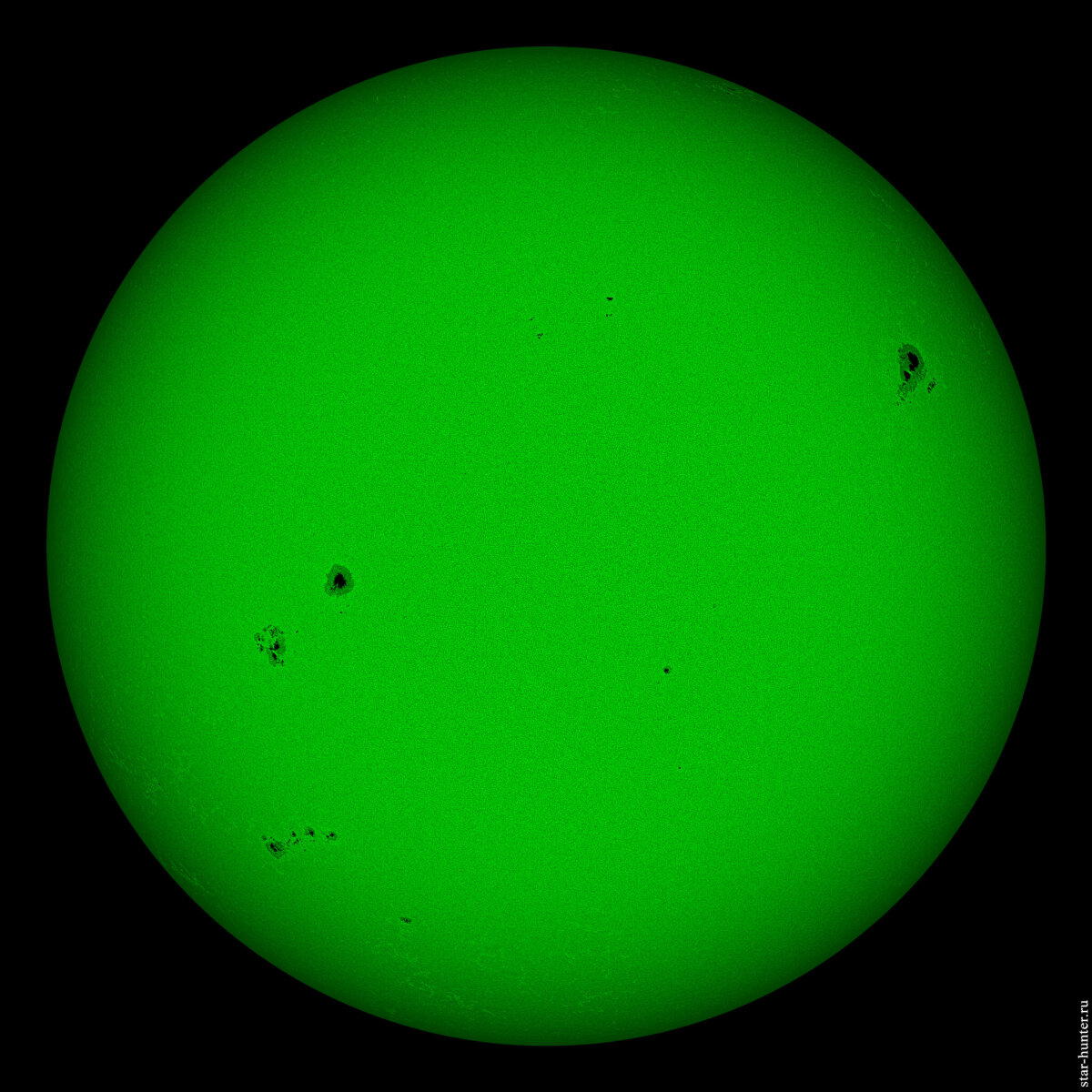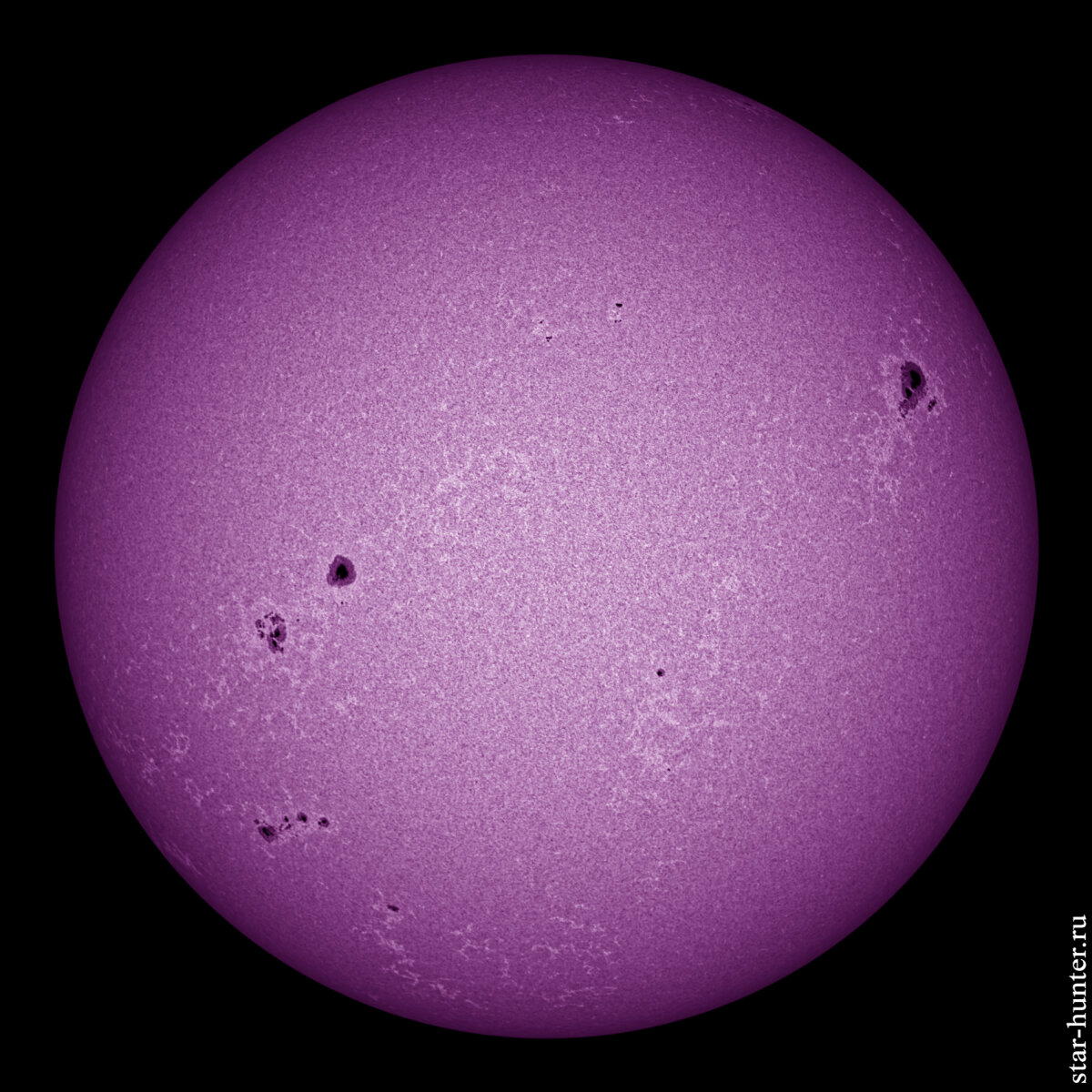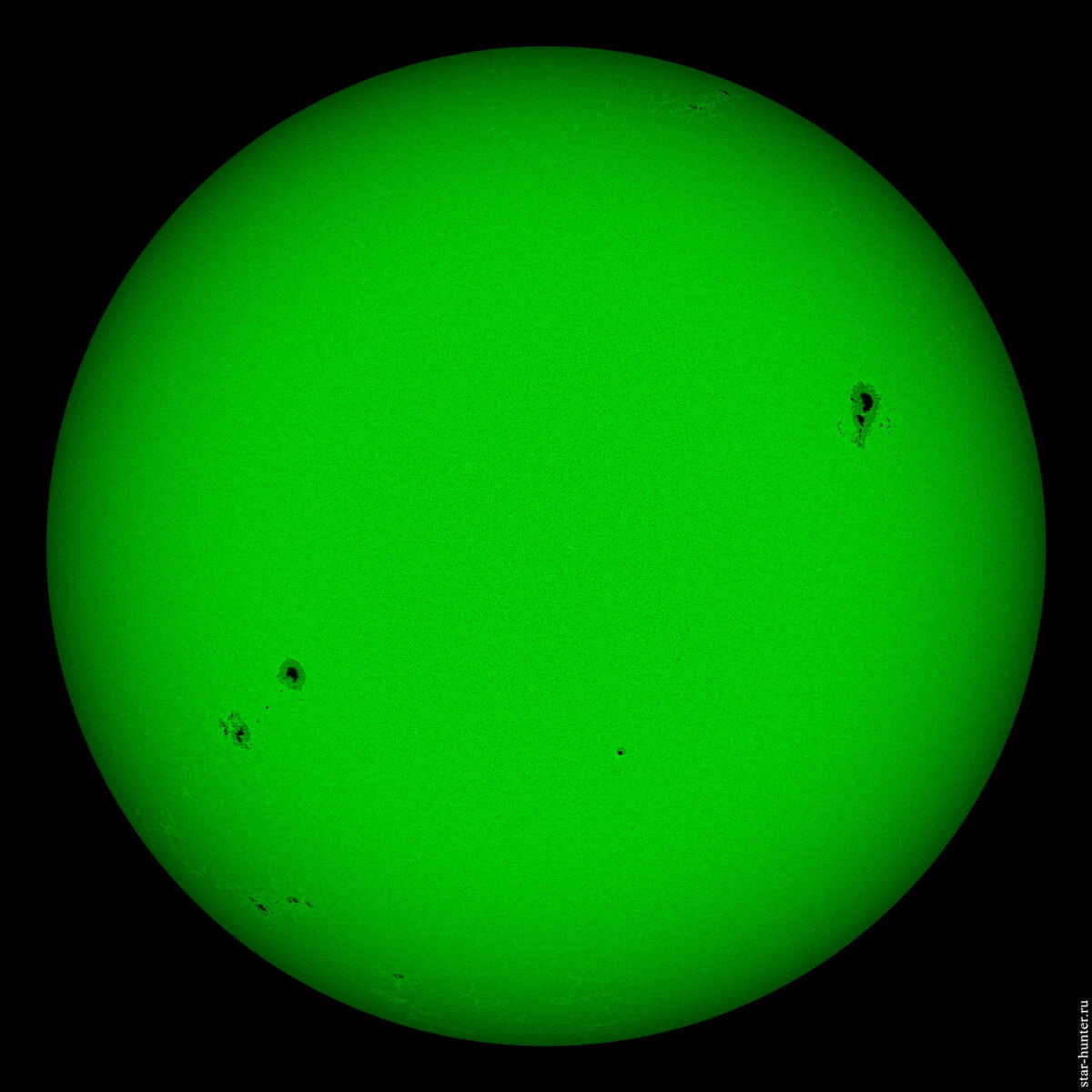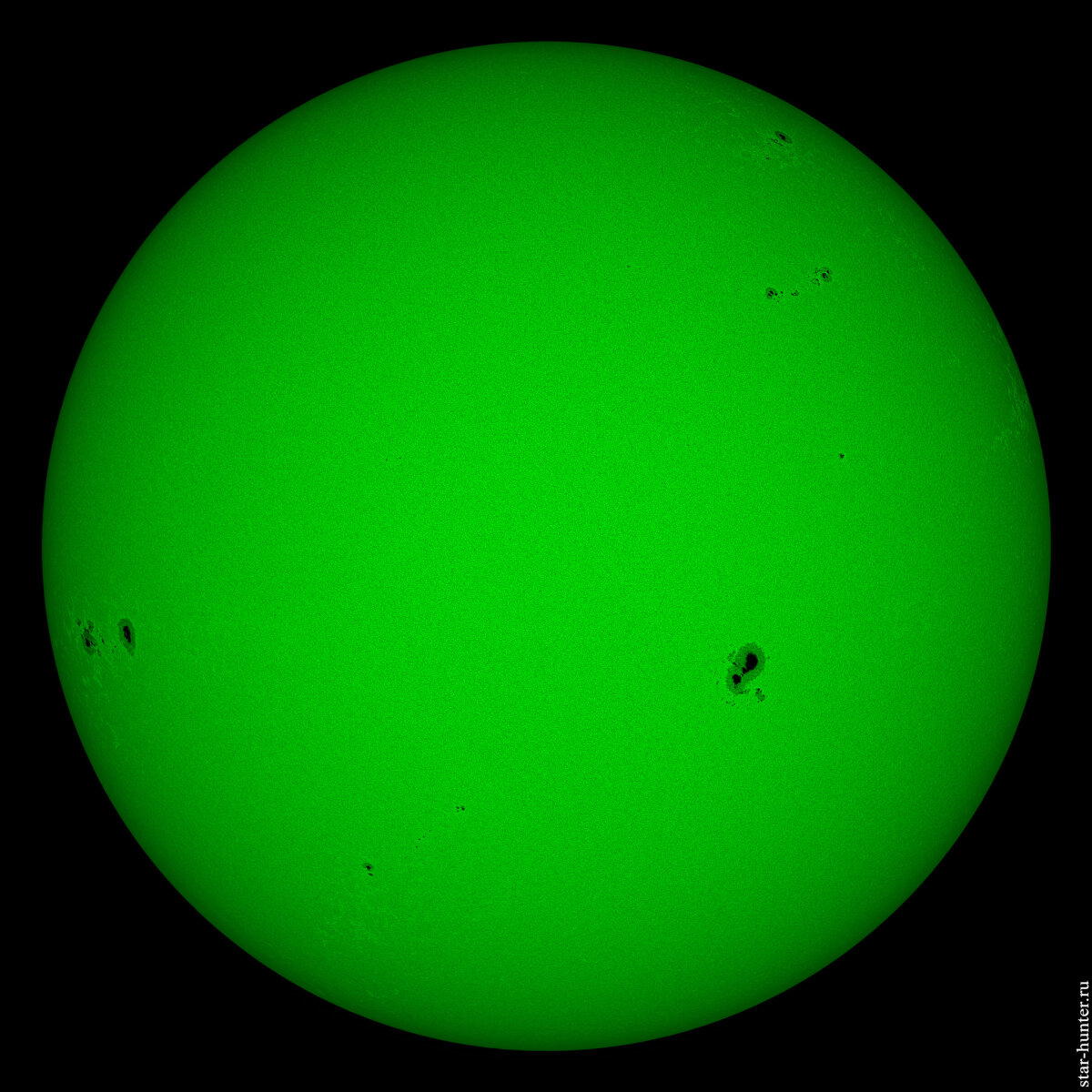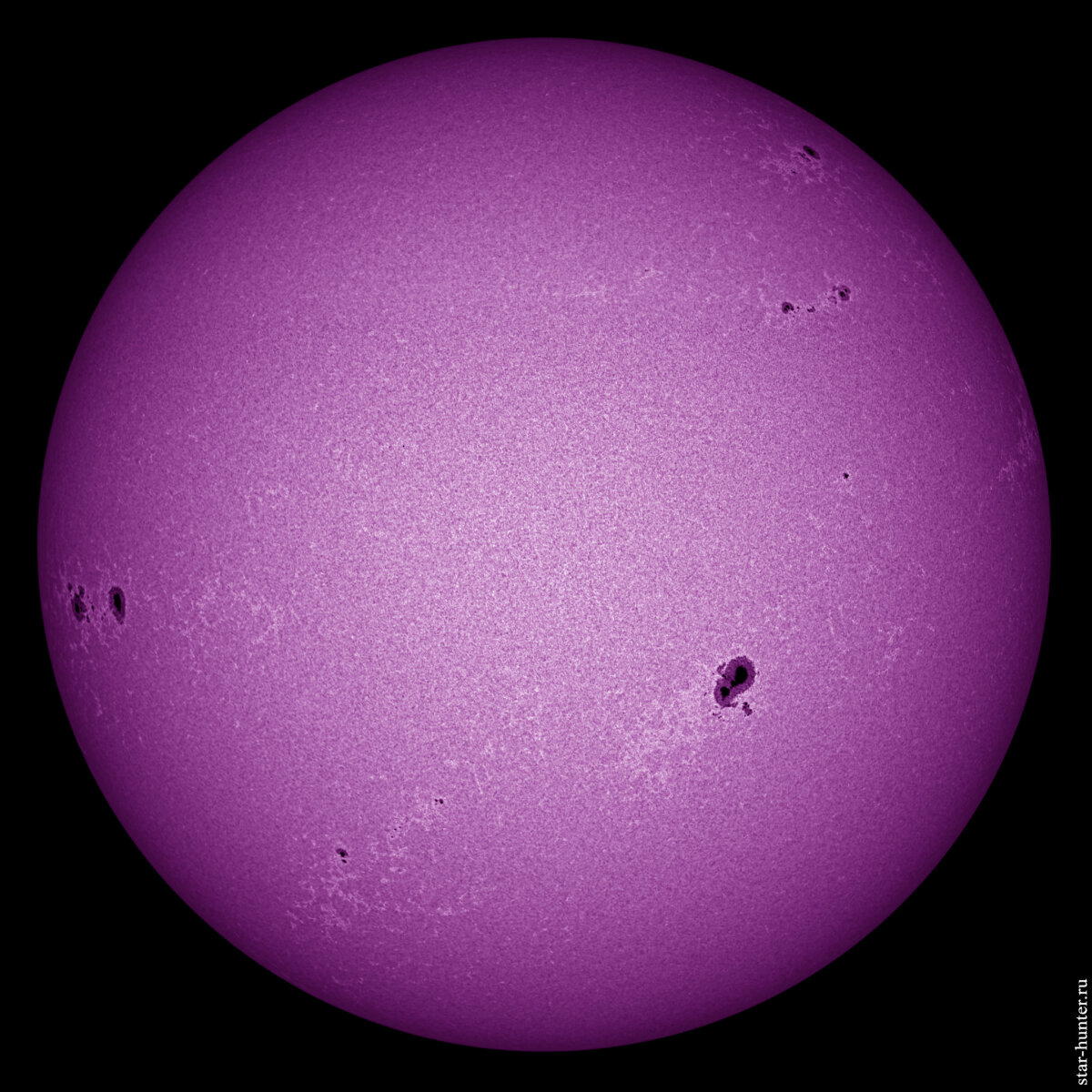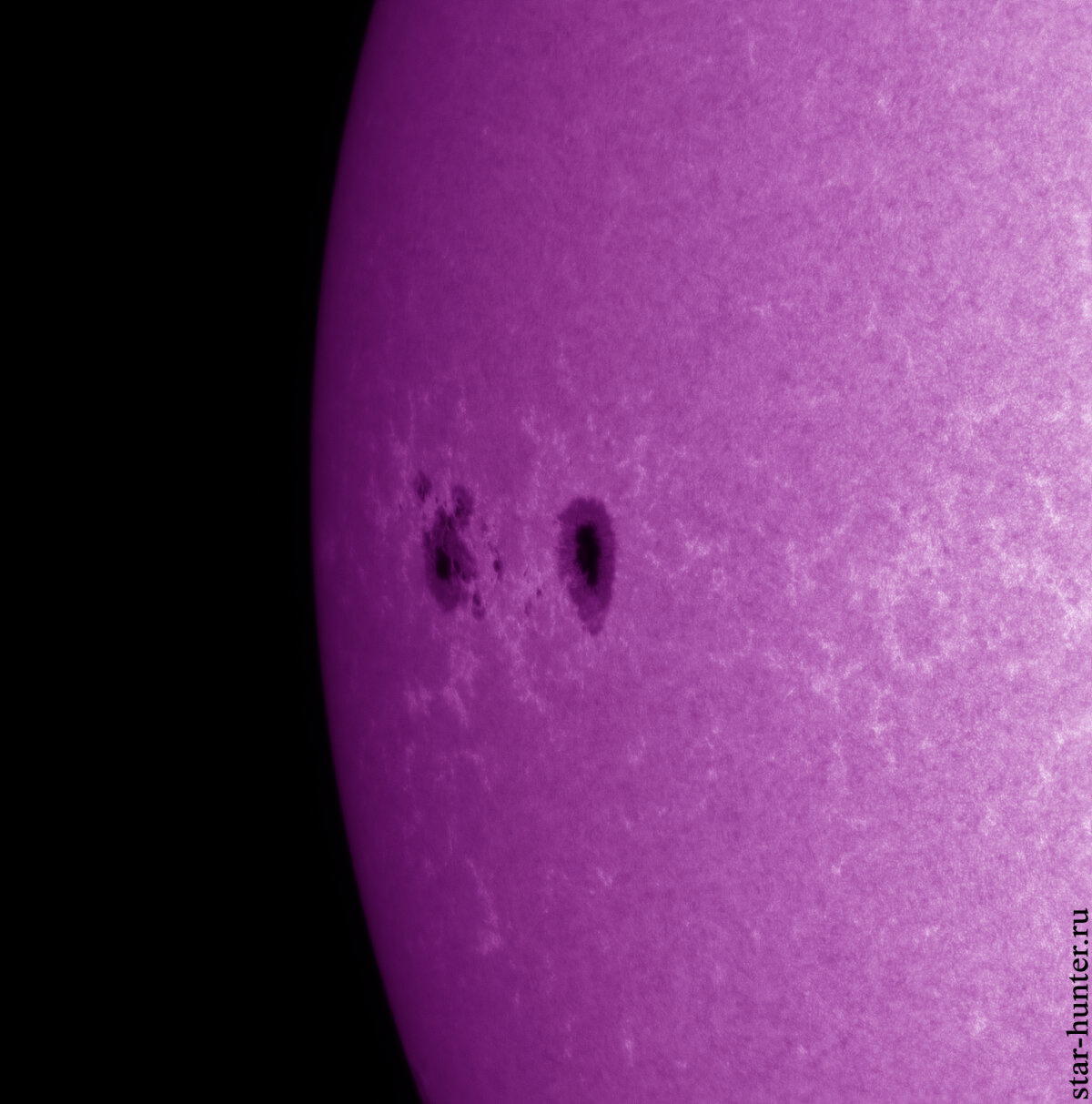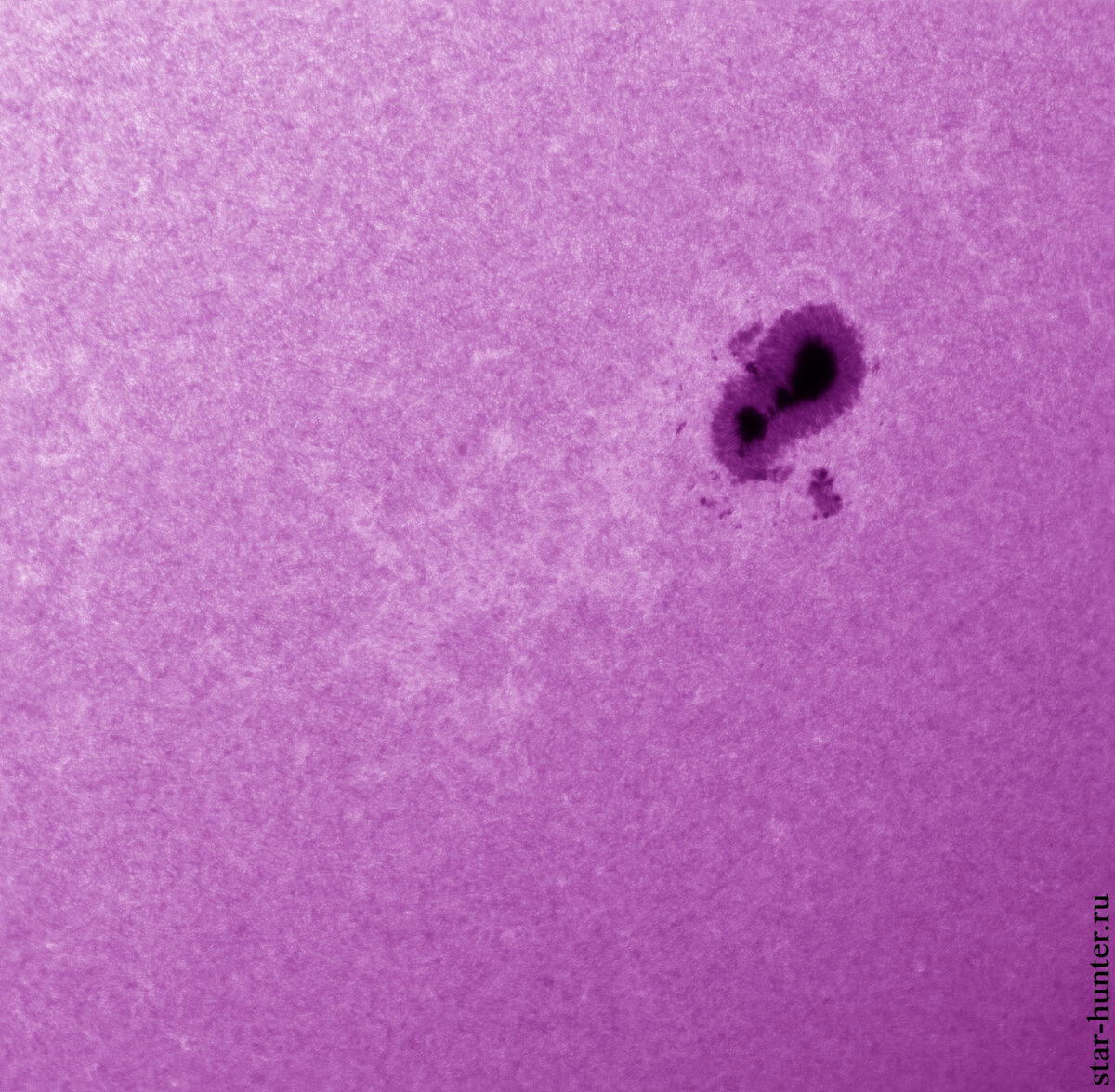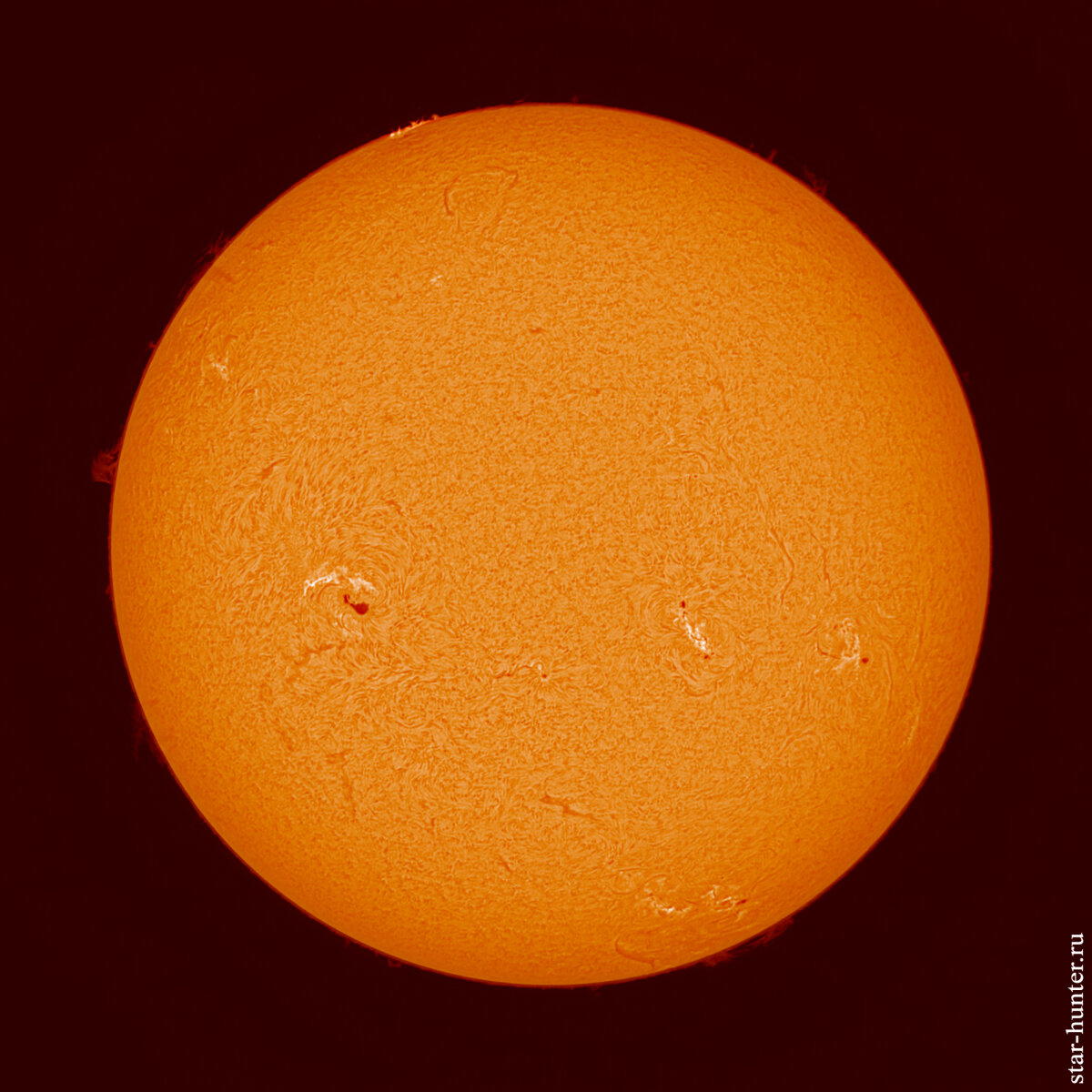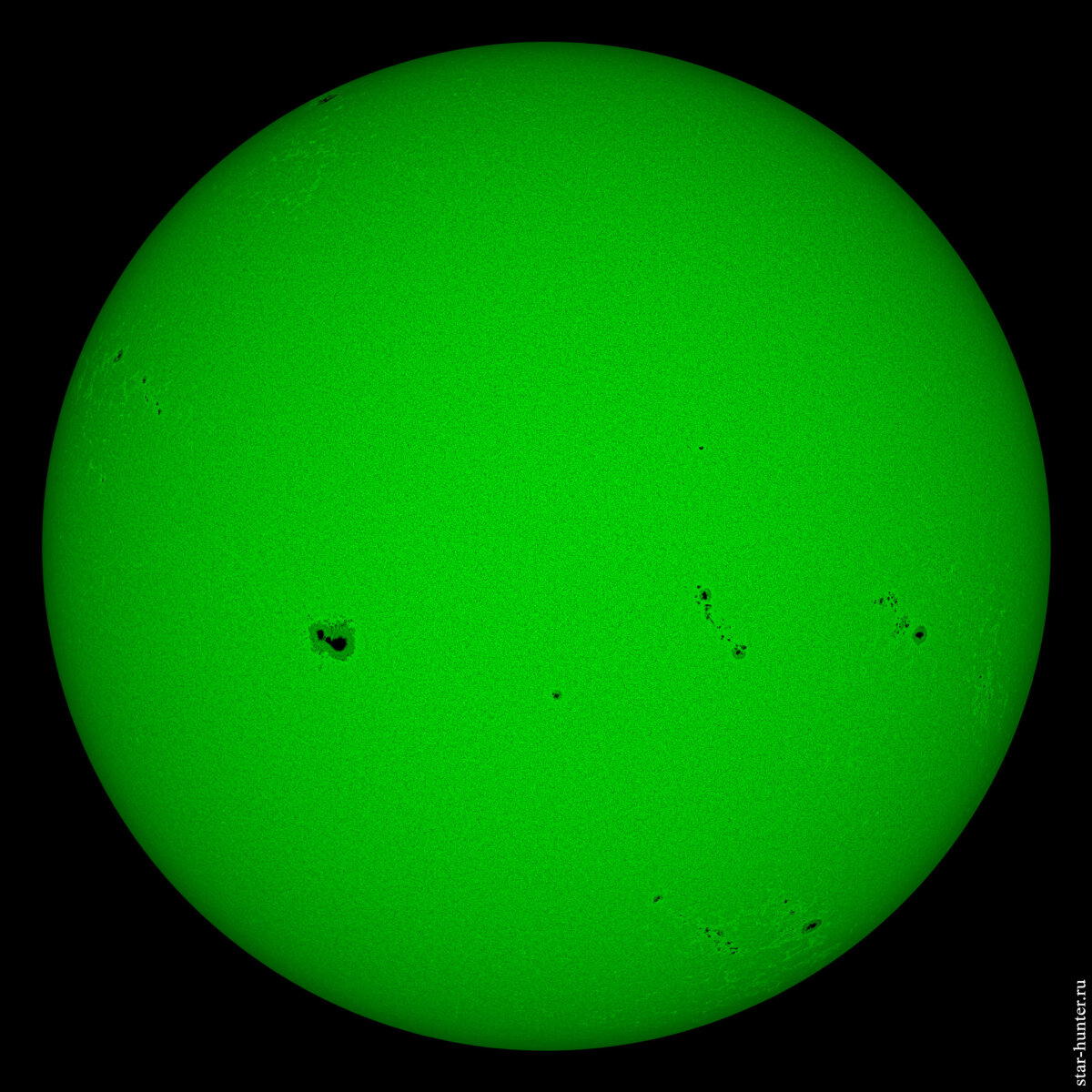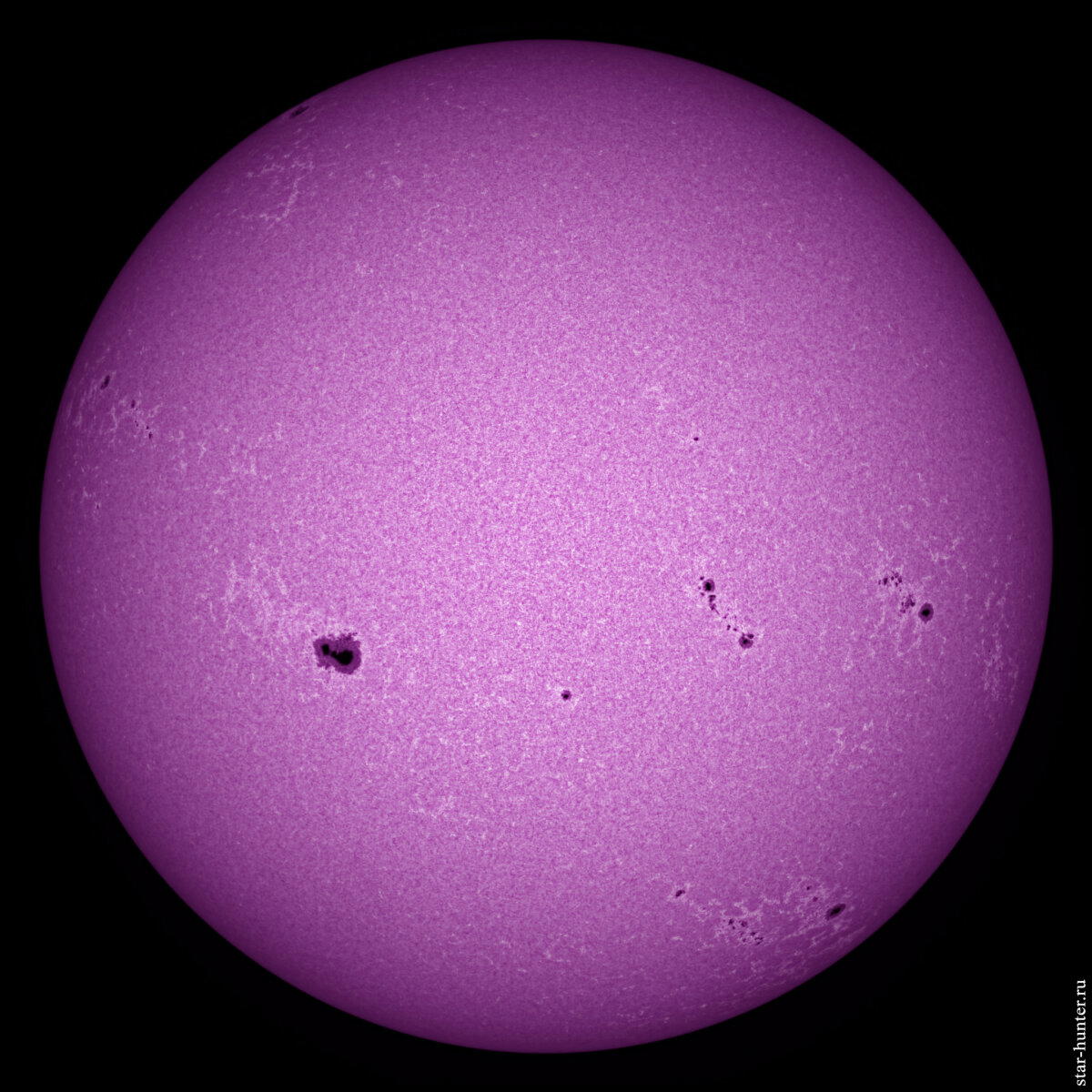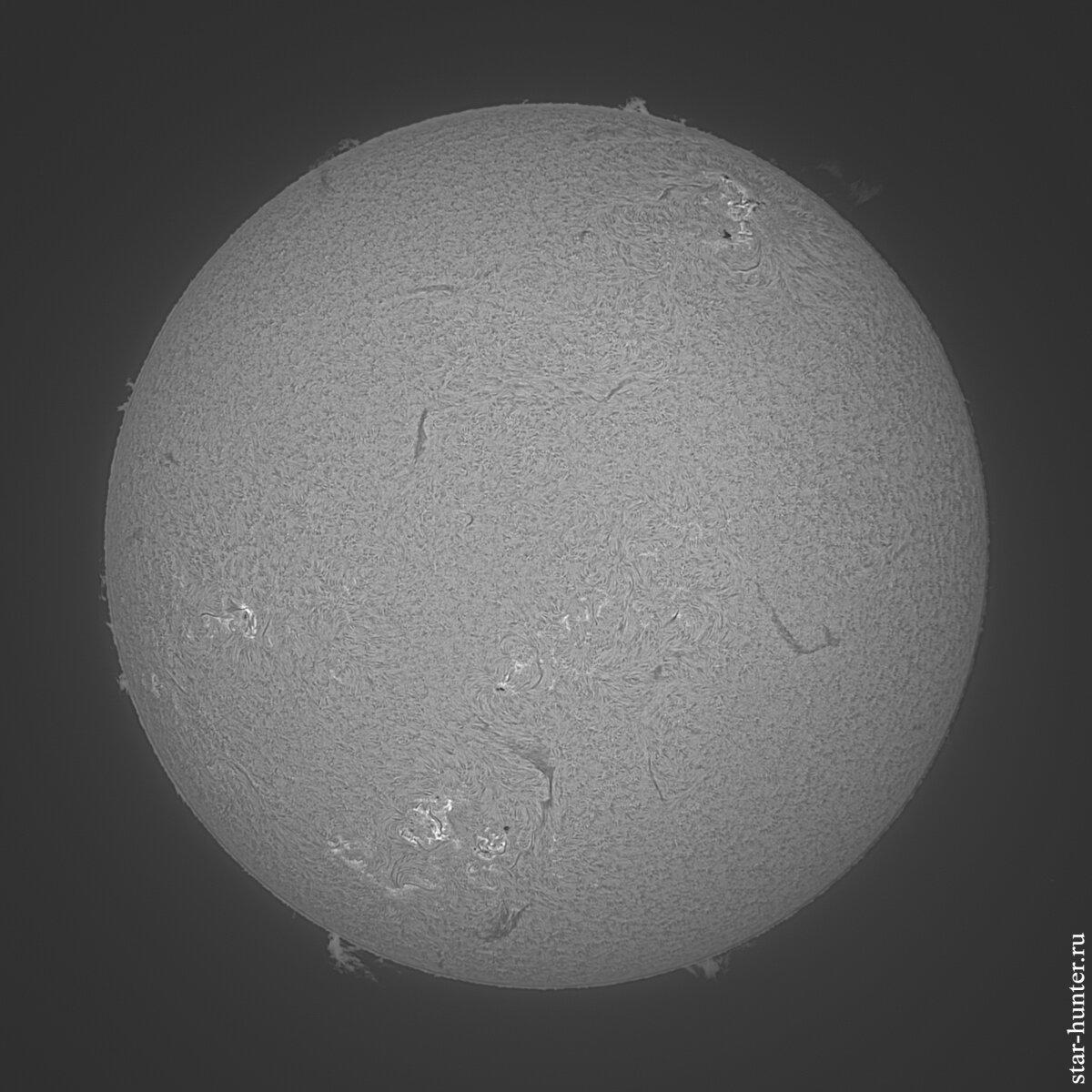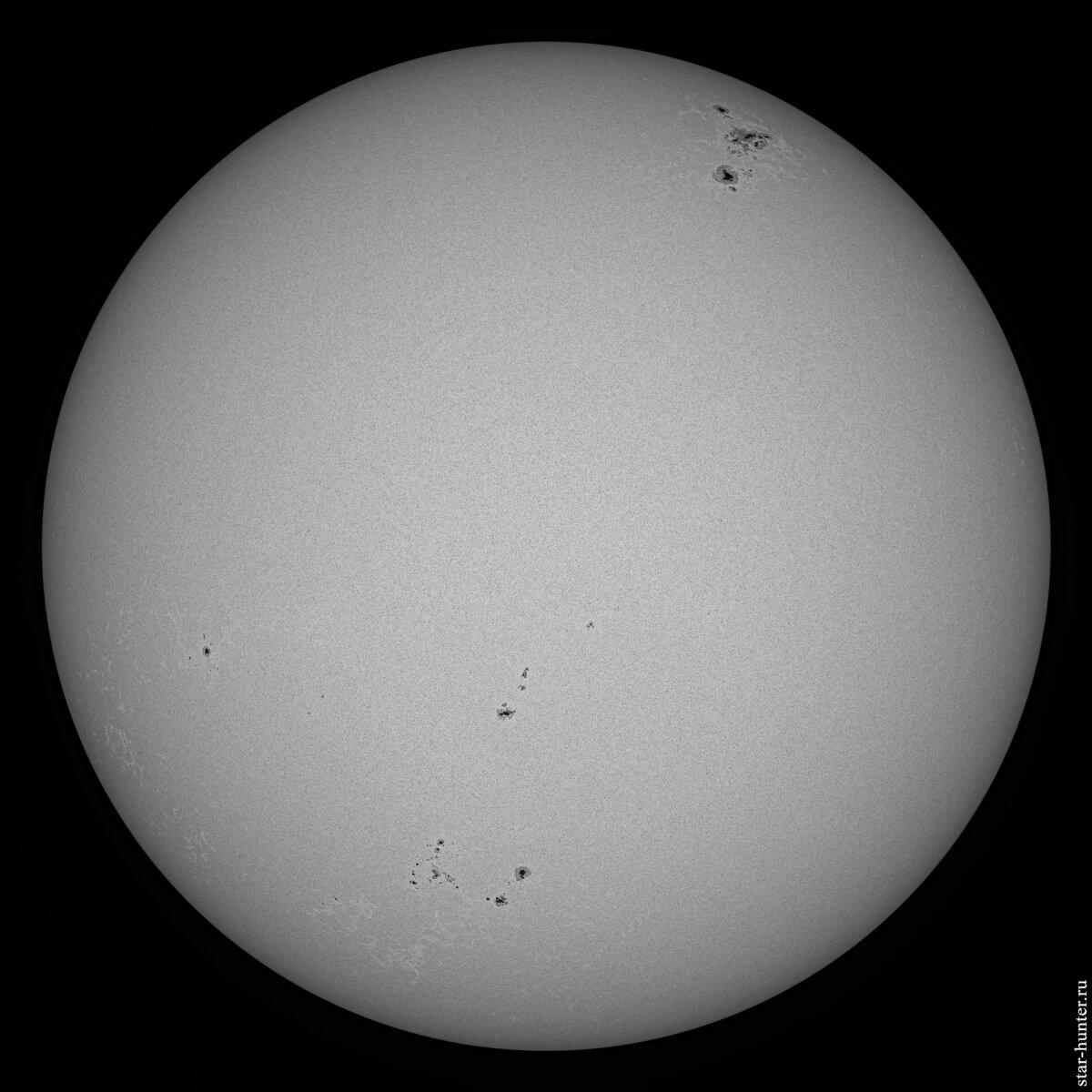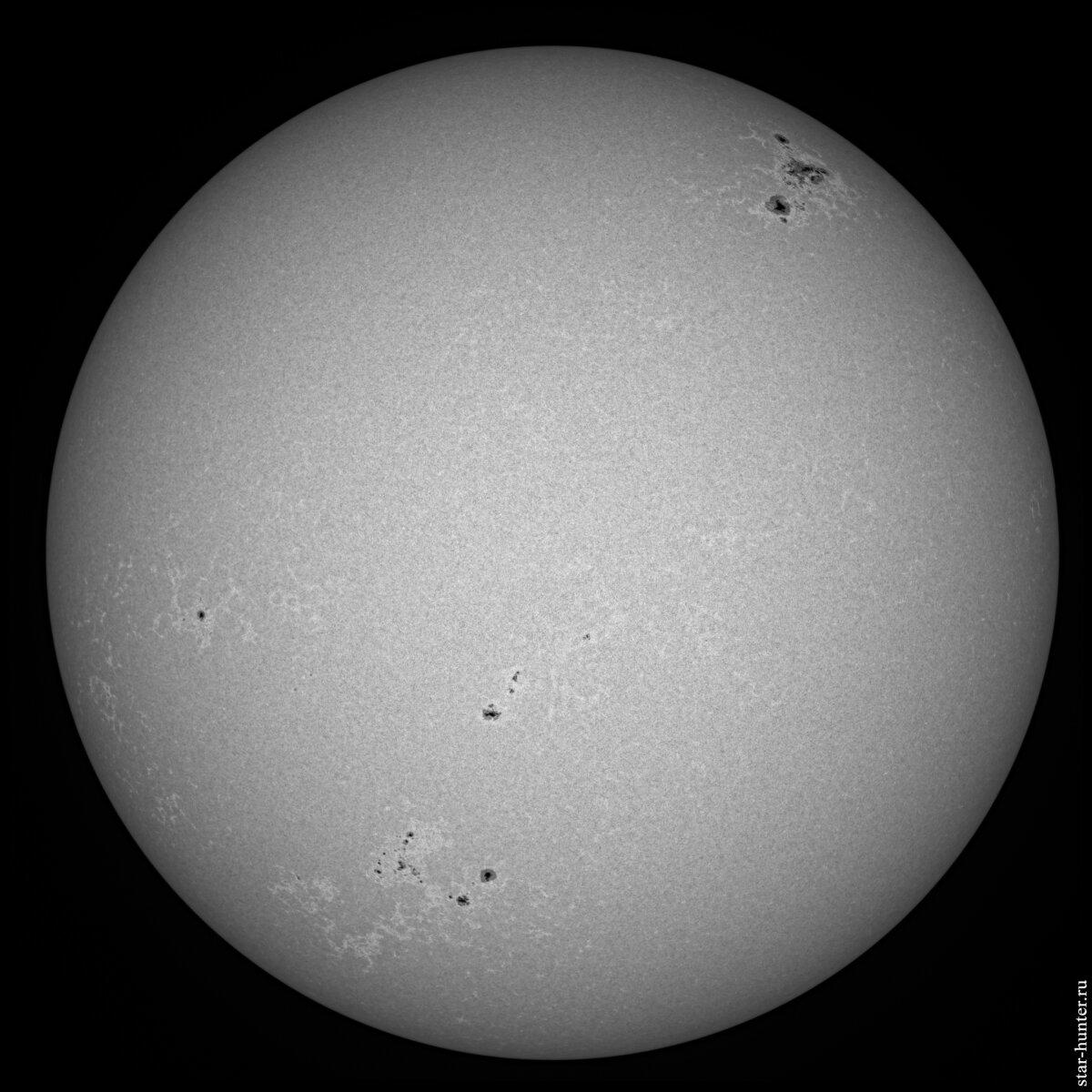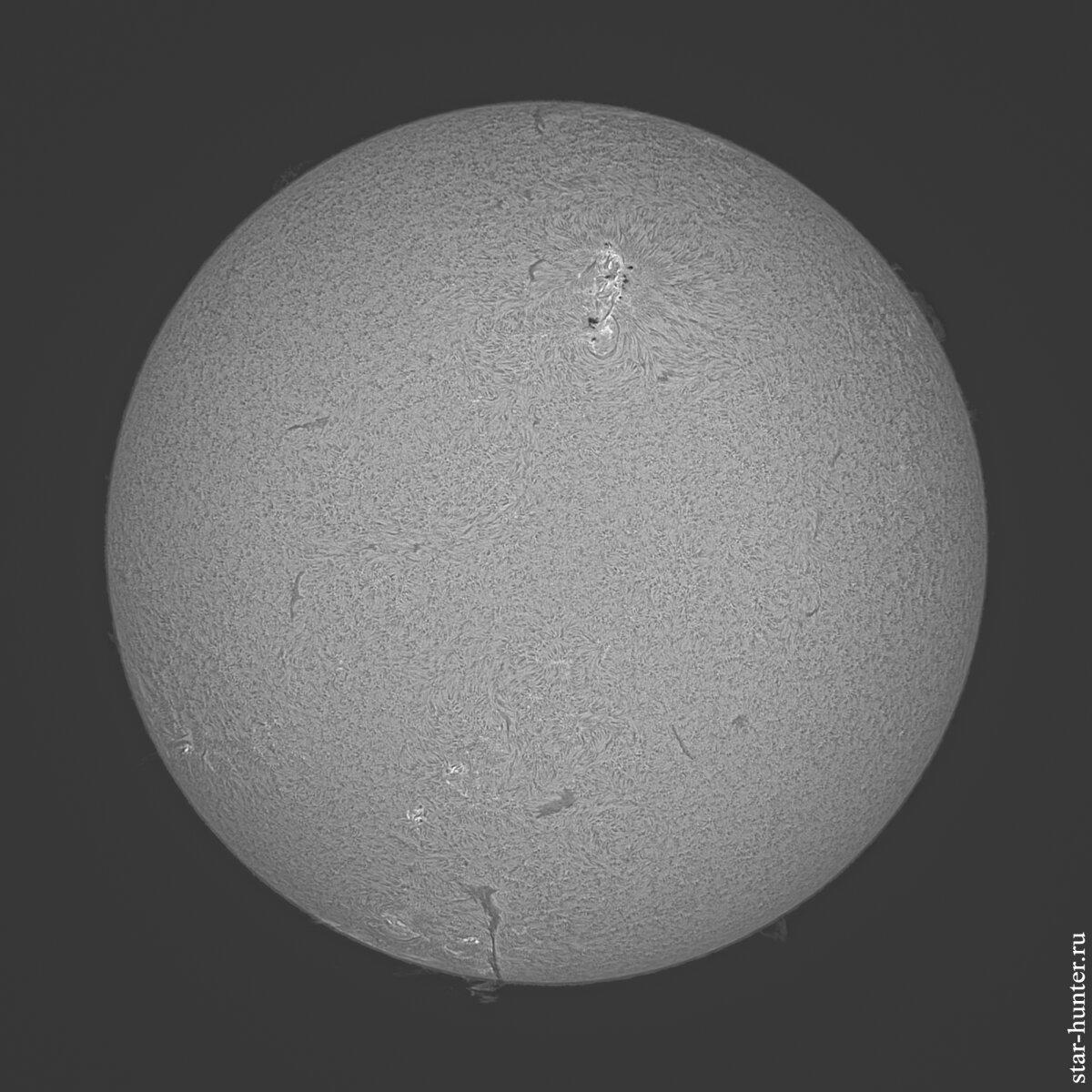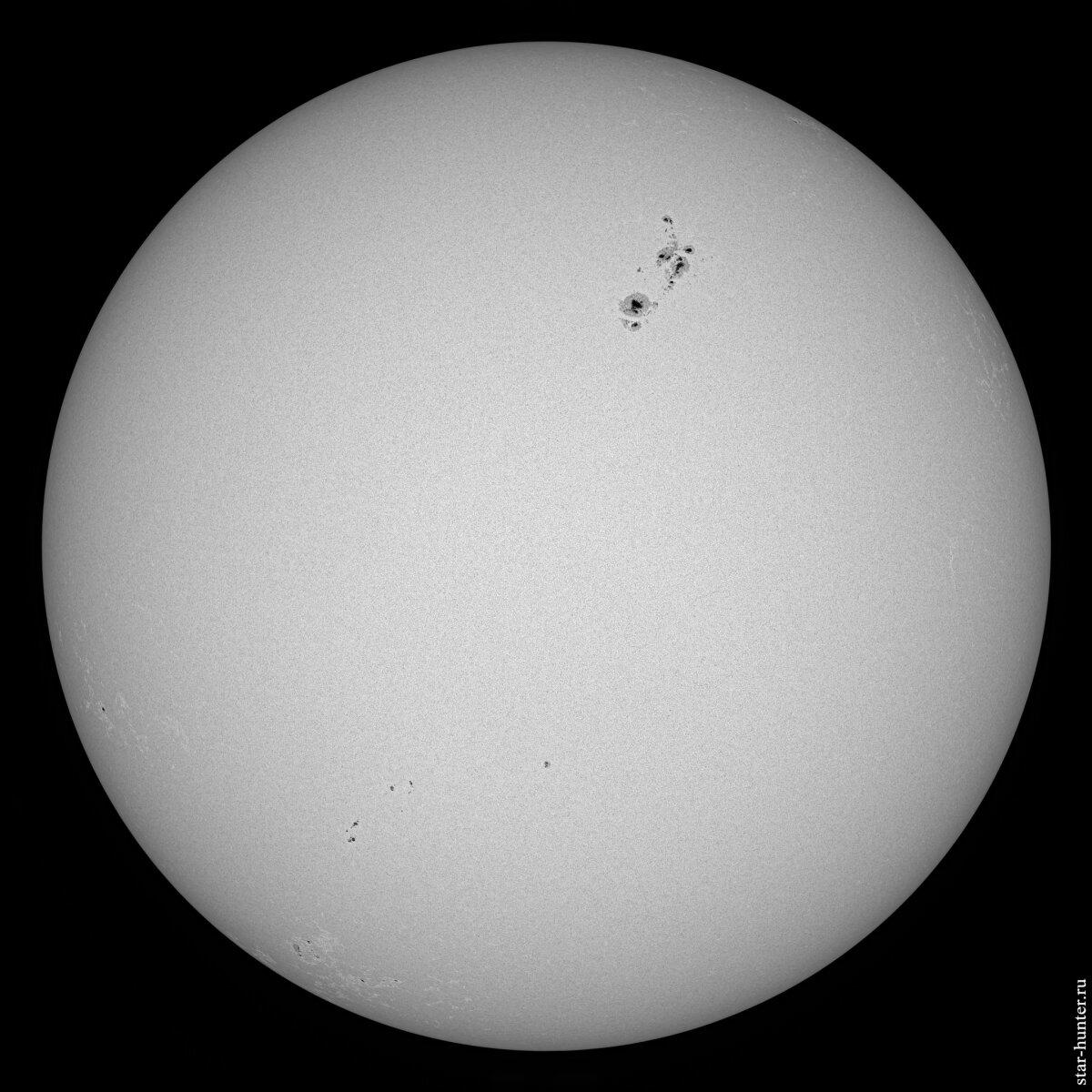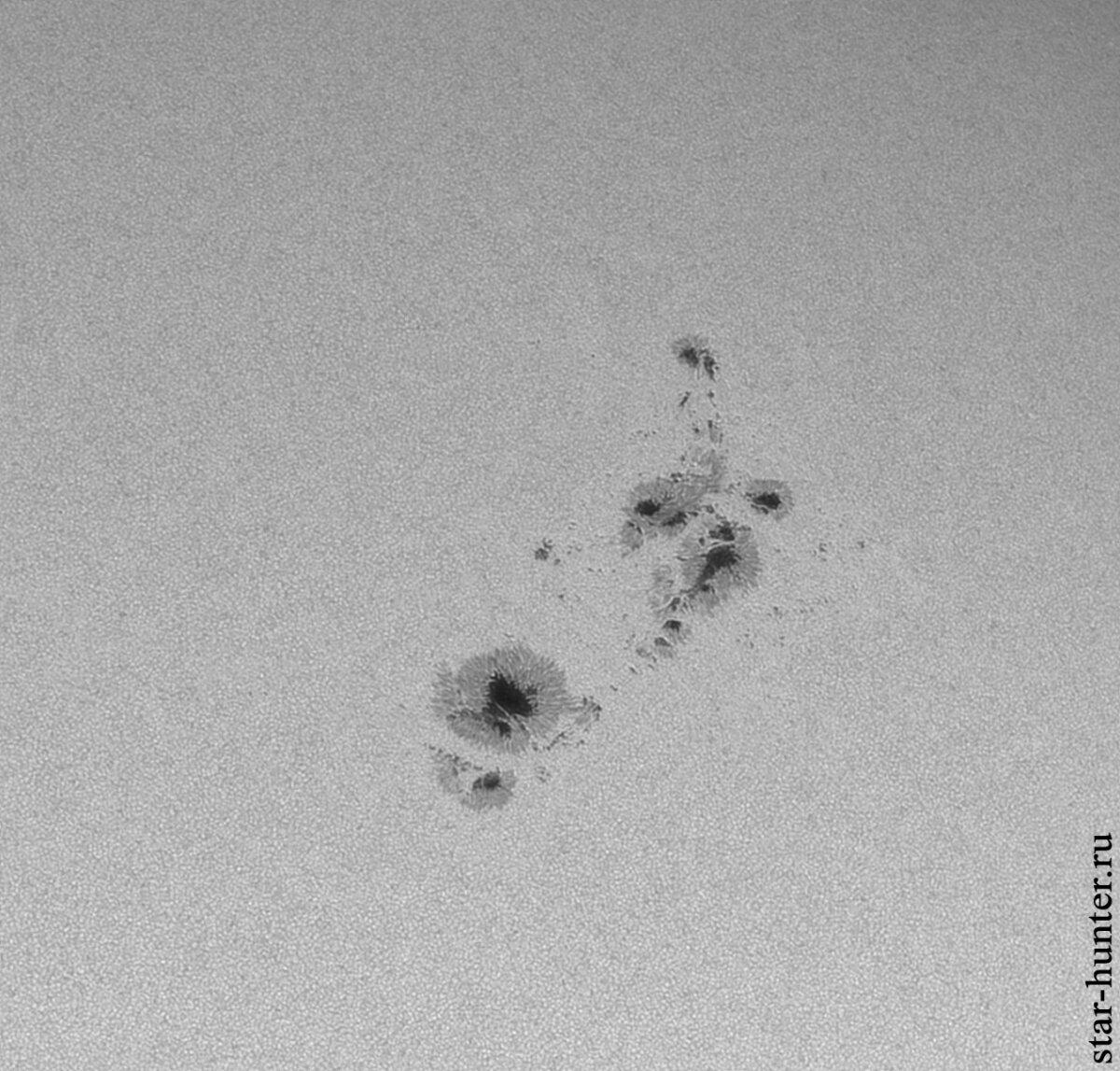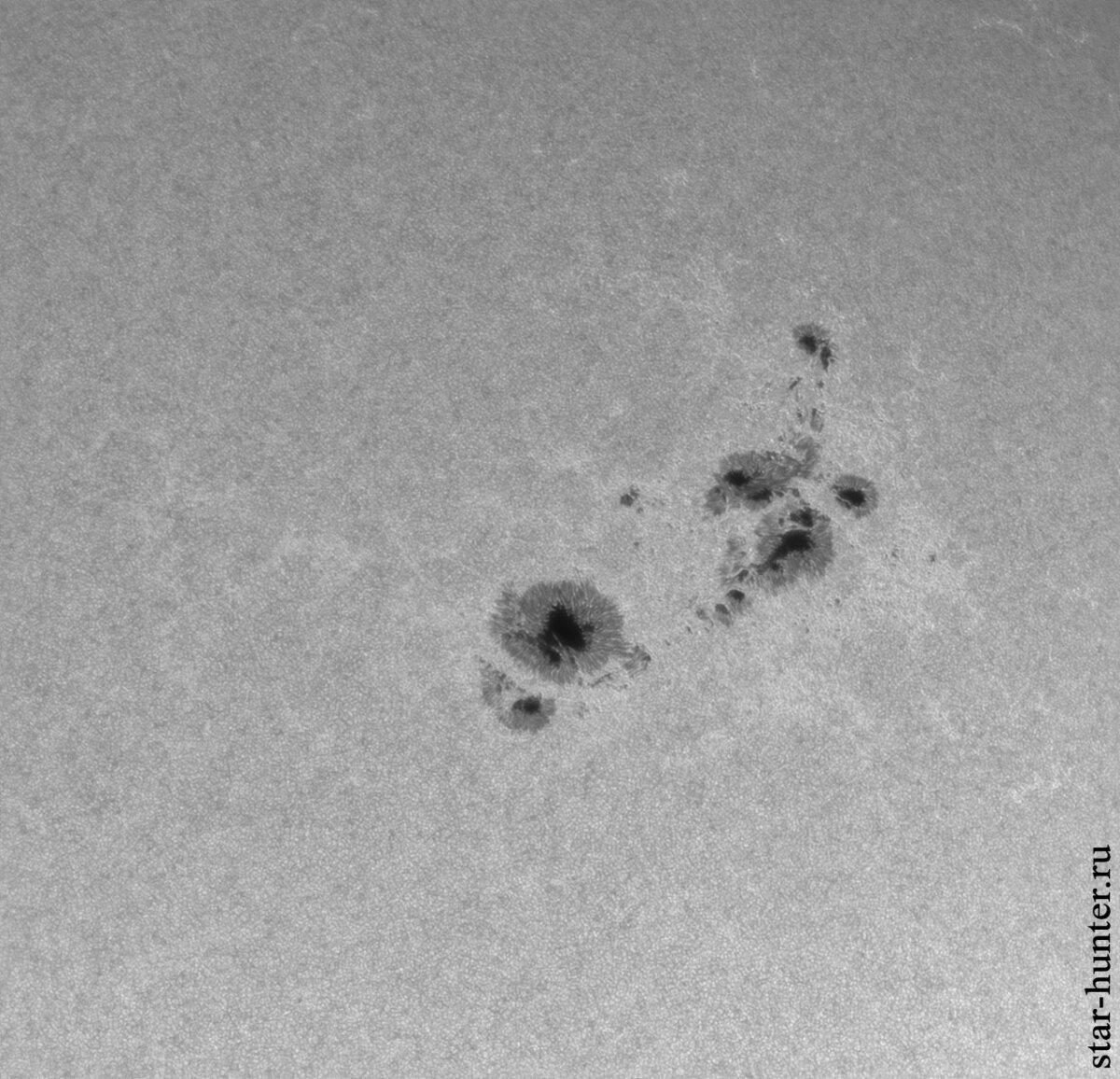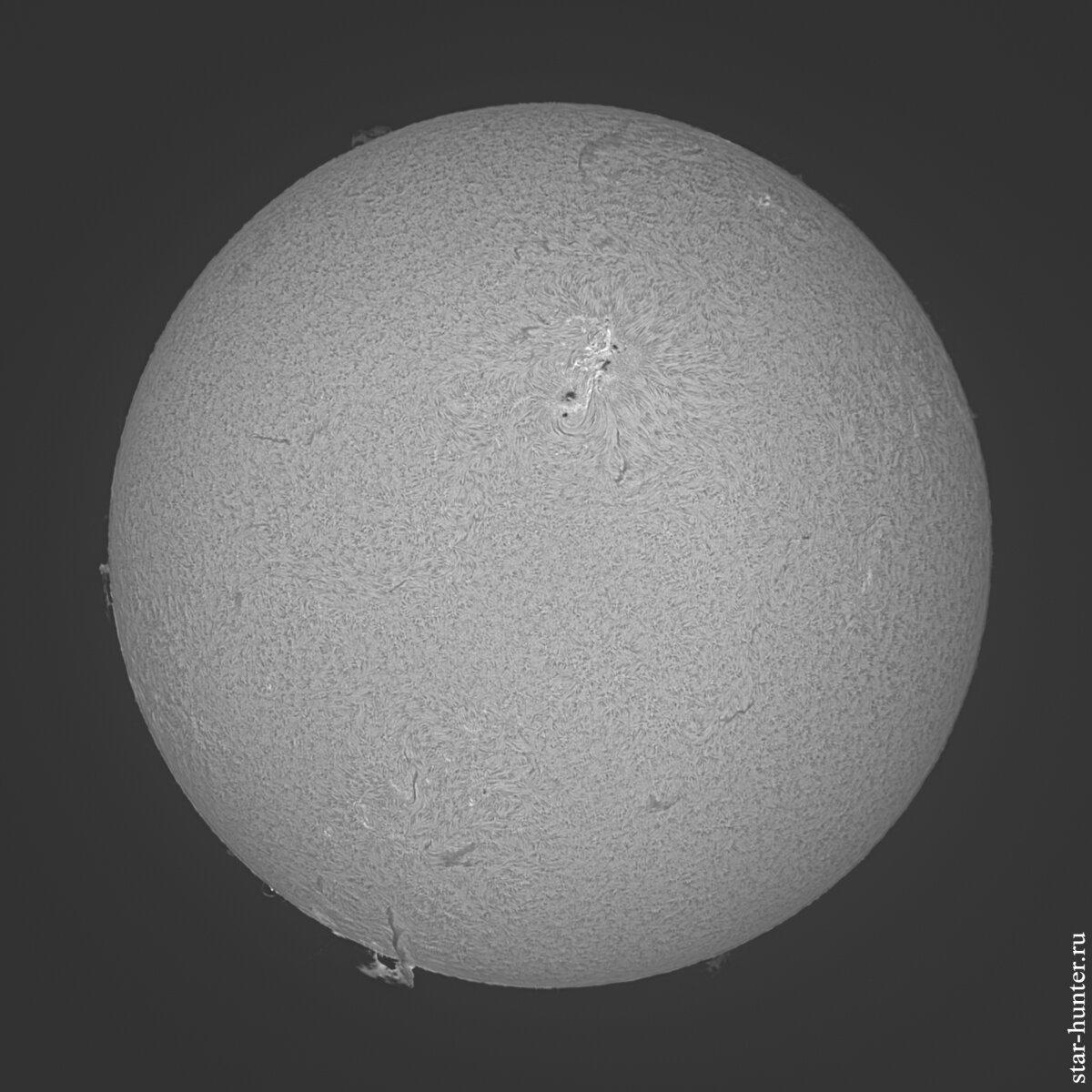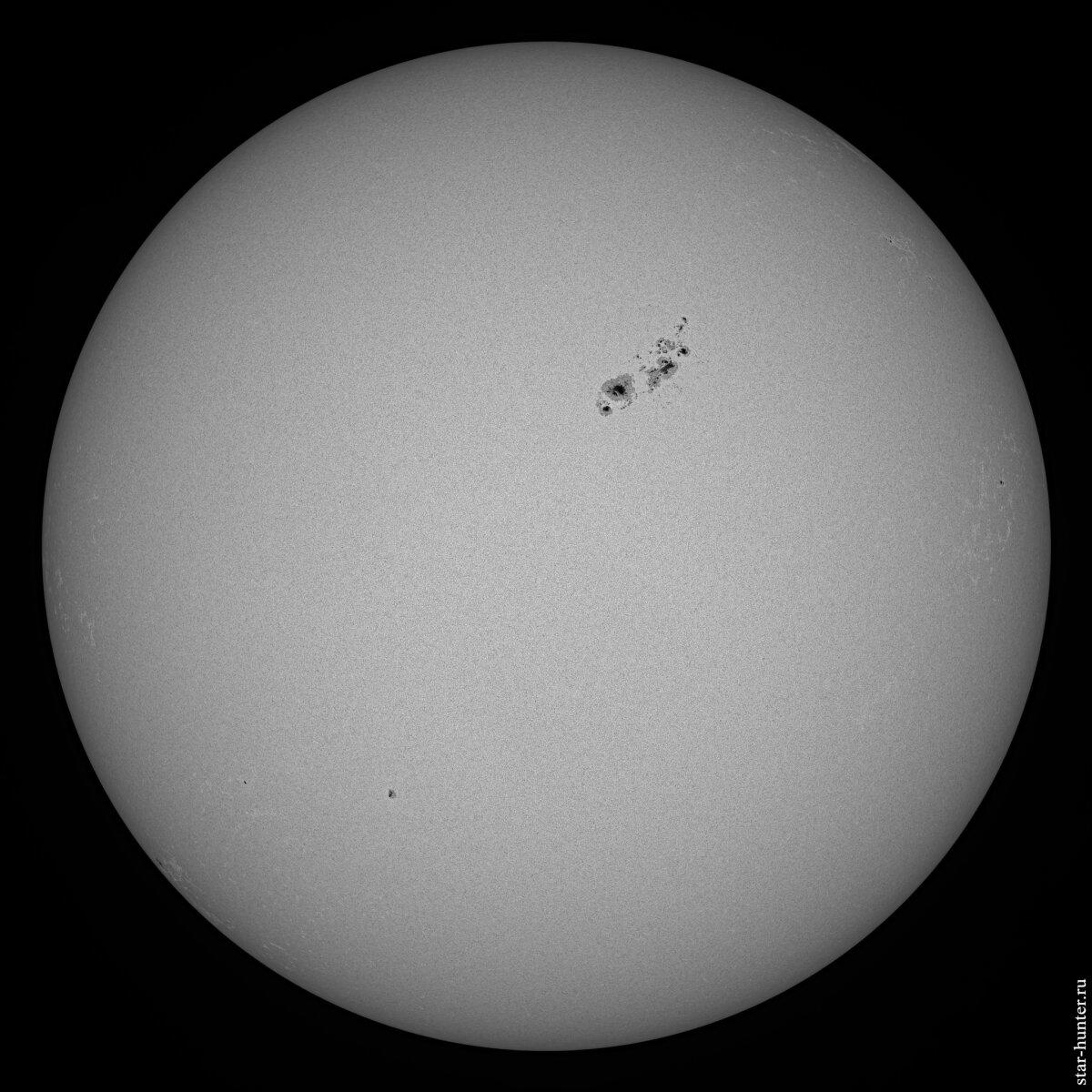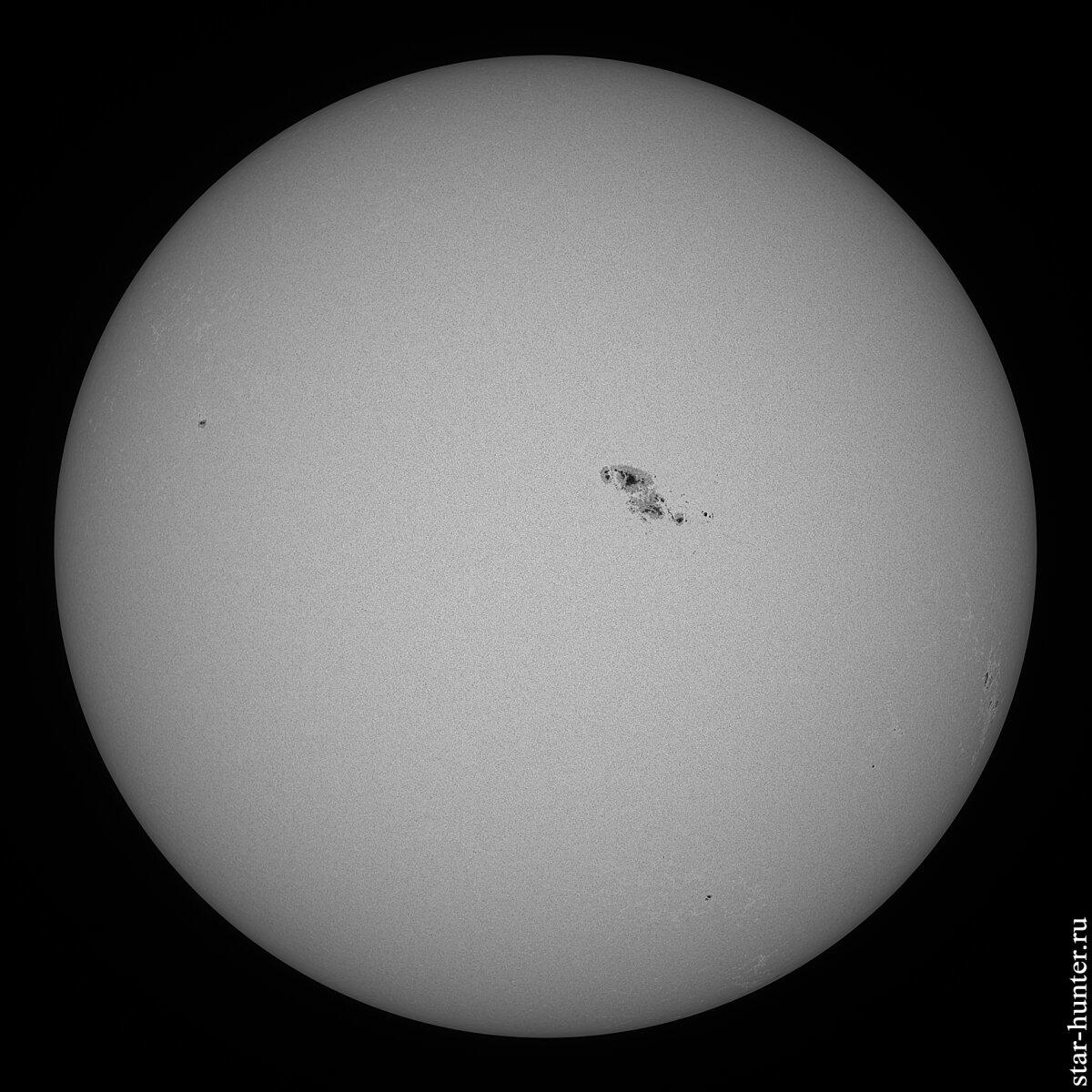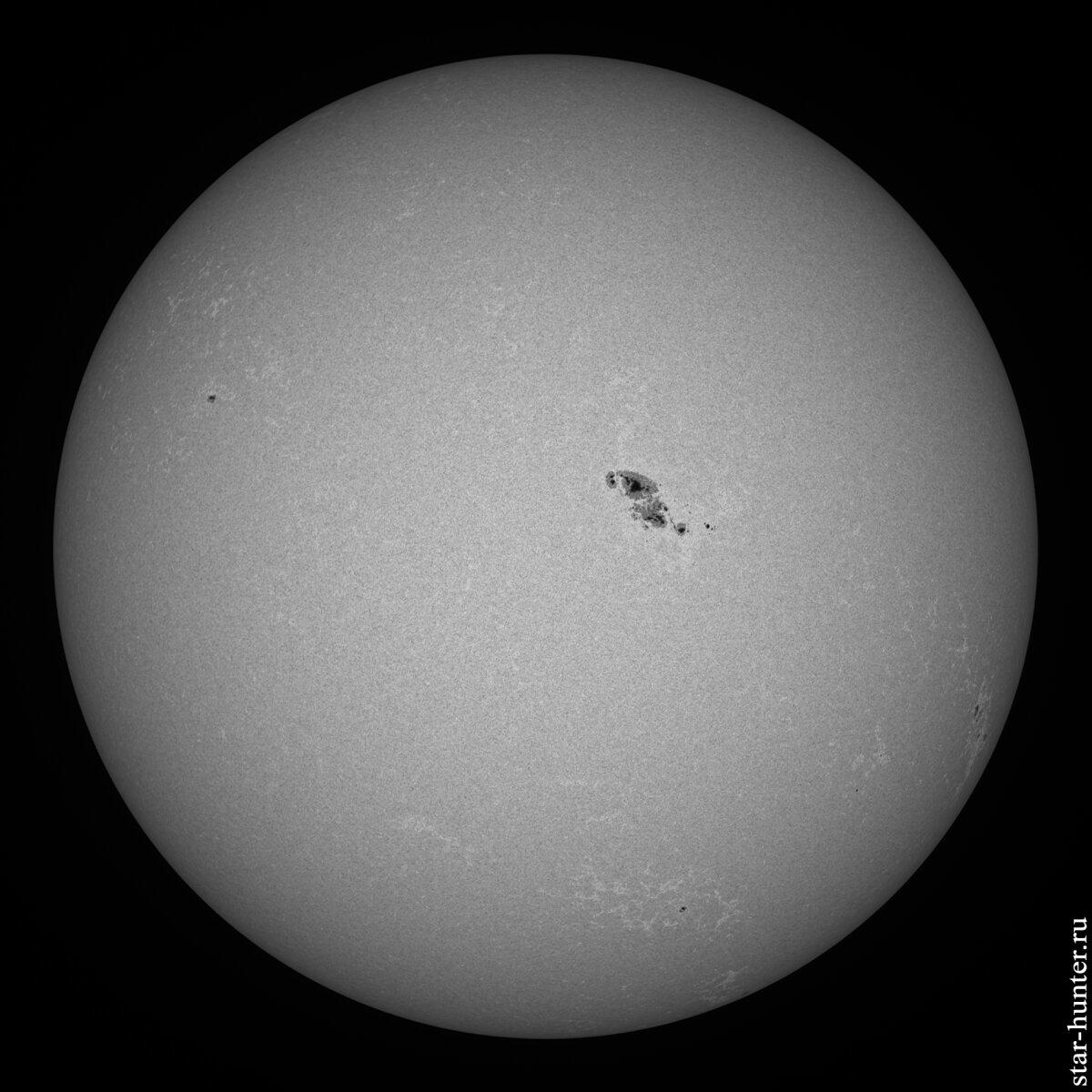Хромосфера (длина волны 656.28 нм)
Оборудование:
-хромосферный телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm
-монтировка Celestron Nexstar SE
-светофильтр Deepsky IR-cut
-астрономическая камера QHY5III178m.
Фотосфера (длина волны 540 нм):
Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT
-монтировка Celestron Nexstar SE
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Baader Solar Continuum
-светофильтр ND3
-астрономическая камера ZWO ASI 183MC.
Солнечное пятно AR 3354 (длина волны 540 нм):
Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT
-монтировка Celestron Nexstar SE
-клин Гершеля Lacerta
-линза Барлоу Svbony SV216
-светофильтр Baader Solar Continuum
-светофильтр ND3
-астрономическая камера QHY5III178m.
Солнечное пятно AR 3354 (длина волны 393.3 нм):
Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT
-монтировка Celestron Nexstar SE
-клин Гершеля Lacerta
-линза Барлоу Svbony SV216
-светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm
-светофильтр ND96-09
-астрономическая камера QHY5III178m.
Место съемки: Анапа, двор.